Падь – резко очерченная, глубокая, неширокая долина, обычно заросшая лесом… Урочище – местность, выделяющаяся среди окружающего ландшафта естественными границами, признаками…
Из толкового словаря Ефремовой
…Мороз ударил такой, что даже частый в эту пору снегирь – и тот, обессилев, падал на лету. Вятка, ещё накануне пестревшая чёрными пятнами промоин, за две лютых ночи побелела и, засверкав на солнце мириадами бриллиантовых искорок, наконец окончательно заснула. Лес на крутых увалах безмолвно затих, покрывшись солидной сединой. От небывалой стужи с лёгкостью от верхушки до корневищ лопались вековые сосны; и если б градусы перевести на джек-лондоновские Фаренгейты, показалось бы, что началось светопреставление.
Январь 1922 года оказался трескучим и малоснежным. Зимний солнечный диск был румян, напоминая масляный блин. Быть летом хорошему урожаю, улыбались, кутаясь в овчину, местные старожилы, не забывая добавлять, что до хлебной страды ещё дожить надо бы. Ведь с таким неурожаем, какой случился в минувшем году, недолго и ноги протянуть…
Вчерашний курсант седьмых Борисоглебских кавалерийских командных курсов, а ныне младший командир Рабоче-крестьянской Красной армии Алексей Озерков возвращался домой, в родную деревню Озерки, что в урочище Рысья Падь. На душе было светло и радостно. Грудь переполняла гордость – и за себя, и за Страну Советов, одолевшую-таки и белогвардейцев, и белополяков, и всяких там империалистов и иностранных наймитов. Но и это ещё не всё. За себя же гордость распирала потому, что где-то там, глубоко под шинелью, на Алёшкиной груди красовался главный секрет для всех родных и деревенских – орден Красного Знамени. Раньше такую награду красноармеец Озерков видел разве что на груди своего командира да у товарища Котовского; у прочих же его сослуживцев ничего подобного не было и в помине.
Нет, награждать-то, конечно, бойцов награждали, но только не орденом. Вон, товарища Топоркова за бой под Каховкой прямо перед строем облагодетельствовали «революционными шароварами»; а пулемётчика Ваську Речкина за срыв махновской кавалерийской атаки премировали трофейным серебряным портсигаром. Васька раньше и не курил вовсе, теперь вот пришлось держать марку. А как же? Все на привале потянутся, бывало, за кисетами с махрой, ну а для Речкина – тот самый случай блеснуть драгоценной вещицей. Не спеша достанет, степенно раскроет, подденет уже приготовленную загодя самокрутку, предложит одному-другому сослуживцу. Потом все затянутся, и он вместе со всеми – для блезиру, так сказать. Знает, что кто-нибудь из бойцов обязательно подойдёт и скажет:
– Покажь партсигару, браток…
– Держи, – ответит Васька, не в силах сдержать улыбки. – Сам товарищ Будённый вручил. Из рук, понимашь, в руки. Спасибо, грит, товарищ Речкин, что благодаря вам, Махно, значится, досталось по сопатке…
– Так и сказал? – не верили красноармейцы.
– Именно так, да ещё и руку крепко пожал, аж до боли…
– Красивый, – качали головами, рассматривая подарок, бойцы. – Офицерский, видать…
– Пожалуй, – подтверждал Речкин. – То ли графский, либо князя какова аль самого генерала. Однозначно – трофейный. Вот так-то, братцы…
Были на памяти у Алёшки и другие примеры того, как поощрялись бойцы его полка. Кузьму Артамонова командир полка, расцеловав, отпустил до родного хутора на целых десять суток. Потому как – заслужил. Во-первых, у Кузьмы одиннадцать дитёв, половина из которых, считай, семеро по лавкам, мал мала меньше. А супруга у него, как сказывал, уж слишком хворая; да двое стариков, да и семья-то безлошадная… Но не это главное, этим отпуск не завоюешь. Артамонов в бою с антоновцами пленил самого Яшку Санфирова, командира Особого повстанческого полка, по сути, антоновской гвардии. За ним ещё с зимы гонялись, а Кузьма – нате вам, товарищи, этого бандита, живого и пленённого. Вот за такое-то дело и отпустили Артамонова на побывку.
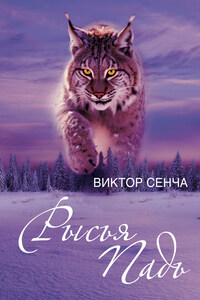
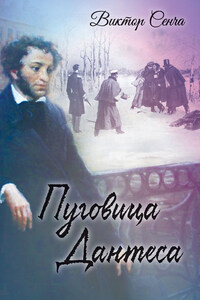
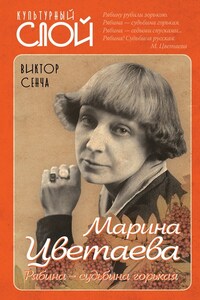
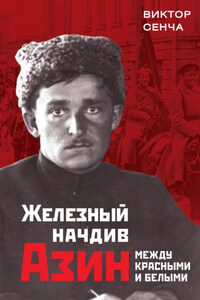
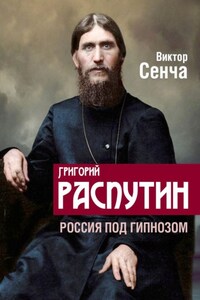

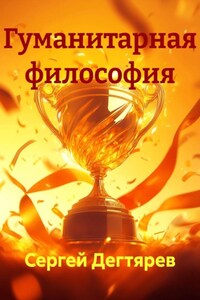
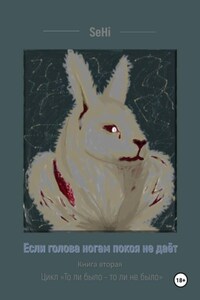
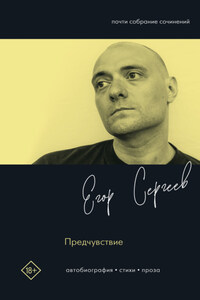

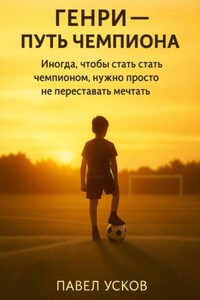
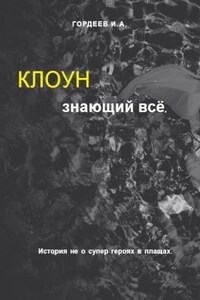
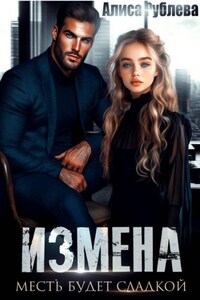
![[НЕ]РАСКОЛЬНИКОВ. Наши дни](/uploads/covers/55/55b7d202c3a0c9c7245d01840a6df1dfbd9ec2cb.jpg)

