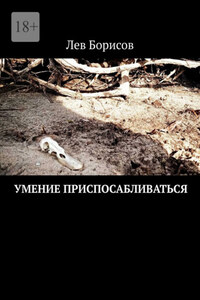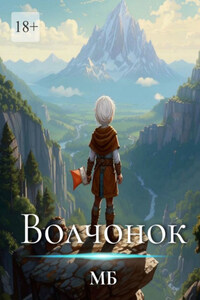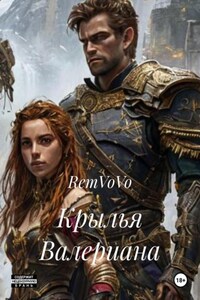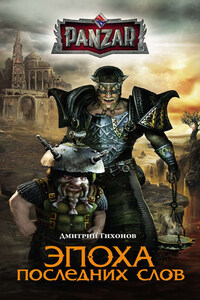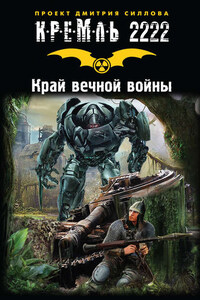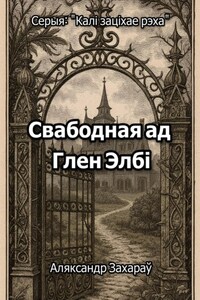Пролог.
Эффект присутствия
Нуллум
За две недели до основных событий
Свирепо рыщущий ветер разгонял неубранные осенние листья. Серое небо жалело снега, зато озаряло окружающие пейзажи так, что они казались ненастоящими, словно напечатанными на черно-белых снимках.
В этот декабрьский день особенно зловеще выглядела тропинка из брусчатки, выложенная в канувшую, практически забытую эпоху. Она проходила через лесополосу и соединяла проезжую часть с территорией старого немецкого кладбища начала XX века.
Правда, этим входом годами никто не пользовался. Со стороны дороги тропинку не было видно. Отыскать ее мог только тот, кто знал о ее существовании.
Рядом со старым немецким кладбищем было новое славянское. Старинный забор кладбища тянулся не только снаружи, но и проходил по территории нового кладбища. Кладбища не пересекались друг с другом, а только соединялись маленькой калиткой, на которую можно было наткнуться лишь случайно.
На немецком кладбище время казалось тягучим, словно ртуть, и посетители здесь давно не появлялись. Не осталось ни одной могилы, у которой бы горевал кто-то из ныне живущих людей. Этим оно и отличалось от нового славянского кладбища, где практически каждую могилу навещали родственники.
Те редкие посетители, которые все же оказывались на заброшенном немецком кладбище, забредали сюда случайно через ту самую калитку, когда навещали умерших родственников на соседнем участке.
Обычно они здесь не задерживались – рассеянно бродили мимо мемориалов, пытаясь прочитать стертые годами слова на камнях, и даже через скорбь у них просачивалось удивление – насколько ухожено это место. Но их умиротворение от замершего времени быстро сменялось необъяснимой тревогой, и они возвращались на славянское кладбище, окунаясь в привычный поток времени.
В центре немецкого кладбища, среди могил, склепов и надгробий безлико стояла маленькая сторожевая каморка. Если особо не приглядываться, она вполне могла сойти за склеп. Но нет, в ней обитал кладбищенский смотритель.
Это место служило ему перевалочным пунктом. Если приглядеться сквозь мутное маленькое окошко каморки, можно было разглядеть стол, заваленный кипой старинных бумаг и карт, покосившийся стул и картину одного очень известного художника с изображением реки и деревьев. Коллекционеры думали, что эта картина безвозвратно утеряна, но вот она, висит в крохотной сторожке на ржавом гвозде над метлой и лопатами. Продав ее, смотритель мог обеспечить себе безбедную жизнь, но, хотя он об этом прекрасно знал, смысла продавать не видел: картина была его трофеем.
До захвата Кёнигсберга немцы прятали все свои самые ценные вещи в фундаментах домов и подвалах. Они закапывали нажитое под деревьями или в тех местах, которые останутся узнаваемыми даже после разрушения. Могилы родственников служили тайниками крайне редко.
В девяностые, сразу после развала Союза, бывшие жители, а точнее, их потомки – немцы, хлынули в Калининград по наводкам своих предков искать спрятанные сокровища. Некоторые из них находили то, что искали. Но в большинстве случаев обнаружить ничего не удавалось. Большая часть тайников либо потеряла своих хозяев, либо была забыта.