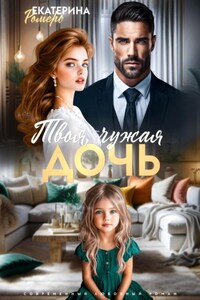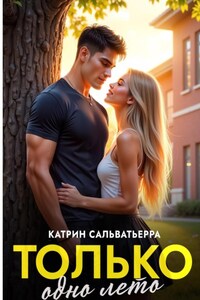Просыпаться – это акт насилия над организмом. Сознание возвращалось обрывками, как плохой радиоприемник: сначала оглушительный гул в ушах, потом – тупая, пульсирующая боль в виске, будто кто-то вставил тебе в череп штепсель и методично, с наслаждением, крутил им. И только потом – сухость. Сухость во рту, на языке, которая была гуще пыли, вязкая и плотная, как вата, пропитанная пеплом. Я лежал на спине, не открывая глаз, и слушал, как по моей башке марширует отряд вояк в железных сапогах. Потом я все-таки рискнул приоткрыть веки. Свет, пробивавшийся сквозь щели в пыльных ставнях, был похож на ржавые гвозди, вбиваемые прямо в зрачки. Потолок над головой украшала та самая трещина, с которой мы жили душа в душу уже третий год. Она была длиннее, чем память о вчерашнем вечере, и честнее, чем любое данное мной обещание.
Враг – будильник – лежал на полу, разобранный на запчасти. Я прикончил его еще в пятом часу утра, когда его пронзительный вопль врезался в мой пьяный сон. Победа была маленькой и пирровой. Теперь мне предстояло встать.
Ноги, тяжелые и непослушные, как чужие, потащили меня через комнату, похожую на последствия бомбежки: горы грязной одежды, пустые бутылки из-под вина, стоящие у стены, как немые свидетели твоего падения, и груды книг и бумаг, которые когда-то должны были сделать из меня писателя, а теперь просто пылились. Я добрел до угла, именуемого кухней, и открыл холодильник. Он зловеще гудел, как умирающий зверь. Внутри царил арктический пейзаж: полпачки сливочного масла, бутылка кетчупа, засохшая у горлышка, словно рана, и три банки пива, выстроившиеся в шеренгу – последний оплот цивилизации. Я взял одну. Шипение вскрываемой банки был единственным утренним гимном, который я был готов слушать. Первый глоток – горький, холодный, спасительный. Он обжигал пищевод и тушил пожар в желудке. Живот сжался в комок, потом медленно, нехотя отпустил. Можно было существовать.
Мысль о душе была столь же абсурдной, как мысль о полете на Марс. Вчерашний пот, въевшийся табачный дым и перегар – это была моя вторая кожа, мои доспехи против стерильного, притворного мира. Я натянул ту же самую рубашку, пропитанную вчерашним днем, те же смятые брюки, на которых красовалось пятно от пролитого вина. Костюм клоуна для очередного представления в клетке.
На улице Москва встретила меня своим ослепительным, лживым блеском. Солнце било по глазам, отражаясь от грязных стекол и полировки дешевых автомобилей. Воздух дрожал от жары и выхлопных газов. Я влился в толпу и почувствовал себя песчинкой в потоке молчаливого отчаяния. Автобус, в который я втиснулся, был консервной банкой, набитой человеческим горем, дешевым парфюмом и запахом пота. Я нашел место у окна, прислонил лоб к горячему, липкому стеклу и смотрел, как мимо проплывает карусель уродства: закусочные с вечно голодными глазами у прилавков, заправки, где люди заливали в свои автомобили бензин, чтобы доехать до таких же ненавистных работ, люди с пустыми, выцветшими лицами, бредущие в никуда. Ничего настоящего. Одна большая, крикливая, пошлая бутафория.
Контора «А» ютилась в унылом двухэтажном здании цвета заплесневелого сыра, зажатом между похоронным бюро и лавкой с дешевой электроникой. Я толкнул дверь, и меня окутал знакомый, почти родной запах – пыли от вековой бумаги, старого дерева, дешевого кофе и несбывшихся надежд. Здесь пахло поражением. Постоянным, хроническим, как мой алкоголизм.
Мой босс, мистер Хэнкок, уже поджидал меня у моего стола, как стервятник у падали. Он был маленьким, тщедушным человечком, который, казалось, всю жизнь носил пиджаки, сшитые для кого-то другого, большего и значительного. Рукава всегда были длинноваты, плечи висели мешком. Его лицо – бледное, невыразительное – всегда было искажено гримасой брезгливого недовольства, будто он вечно чувствовал запах испорченного молока. Он был рожден для того, чтобы иметь над кем-то власть, и я был его избранной жертвой.