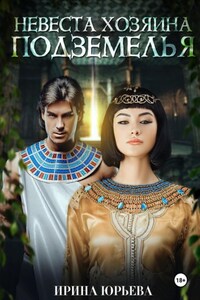В полночь я стою в центре своей бывшей светлицы. Вокруг трепещут огни – десятки восковых свечей, вставленных в массивные медные подсвечники, отбрасывают на стены пляшущие тени. Их свет дрожит, будто тоже боится того, что грядёт. Воздух густ от запаха горящего воска, хвои и чего-то горьковатого – может, полыни, может, страха.
Женские голоса сливаются в единый стон. Плакальщицы, сгорбленные, с распущенными волосами, сидят вдоль стен, причитая нараспев. Их песни – не просто обряд, это настоящая скорбь. Они знают, что утром меня не станет.
Я стою посреди комнаты, босая, в тонкой рубахе, и чувствую, как дрожь бежит по спине. Но не от холода – от чего-то другого. От осознания. От безысходности. От странного, глупого, неистребимого ожидания спасения.
– Ох, голубка моя… – Нянюшка всхлипывает, поправляя мои волосы. Её пальцы, шершавые от многих лет работы, дрожат. – Да как же так-то? Да как же?
Пол устлан еловыми ветвями – их острые иглы впиваются в босые ступни, но я даже не вздрагиваю. Между ними – дорожка из калины. Ягоды, яркие, как кровь, рассыпаны под ногами, и кажется, будто уже иду по кровавому следу.
Женщины суетятся вокруг. Мамки, няньки, свахи – все они знают своё дело. Одни обтирают моё тело холщовой тряпицей, смоченной в ледяной воде с хвойным отваром. Вода стекает по коже, оставляя мурашки. Хоть бы тёплую дали… Но нет, теплая вода для живых, а я уже одной ногой за чертой.
Потом – льняная рубаха. Белая, как смерть, с алыми узорами по подолу, рукавам, горловине. Я сама вышивала их, мечтая о свадьбе. Сидела у окна, щурясь от солнца, и представляла жениха – сильного, доброго, который удивится, какая его невеста рукодельница.
Но сегодня – не свадьба.
Девушка с заплаканными глазами пытается заплести мне косу.
– Пусть будет так, как есть, – говорю я тихо.
Мои волосы остаются распущенными. На них повязывают вышитую ленту с височными кольцами, а сверху – венок из калины. Ягоды холодные, будто уже мёртвые.
Всё это – и рубаха, и венок, и обряды – должно быть свадебным убранством. Но сегодня оно смешивается с погребальным.
Потому что меня отдадут змею.
Легенда гласит, что в топях, за лесом, живёт древний ящер. Нянюшка пугала им меня в детстве: «Не ходи в лес одна, а то змей утащит!»
Но я не боялась.
Наоборот – тайком бегала к болотам, высматривая чудище. Мне было жаль и девушек, которых когда-то приносили в жертву, и самого змея. Может, он просто одинокий? Может, его никто не любил?
Ни разу не встретила его.
А теперь он вернулся.
Месяц назад первые свидетели увидели его – огромную тень в тумане, горящие глаза среди камышей. И старейшины вспомнили древний обычай.
И выбрали меня.
– Ох, говорила тебе, дурная затея! – Нянюшка рыдает, обнимая меня. – Не надо было тебе тогда уходить!
Я крепко прижимаю её, вдыхая знакомый запах – мяты, липы и чего-то родного, что всегда было домом.
– Не рви сердце, нянюшка. Такая судьба моя…
Целую её в морщинистый лоб и отпускаю.
За дверьми уже ждёт повозка.
Сегодня меня принесут в жертву, отдав на откуп змею, которого снова стали замечать в топях месяц назад.
Солнечные лучи, тонкие и жгучие, как раскаленные иглы, пробиваются сквозь слюдяное окошко, рассыпаясь бликами по разложенным на столе лентам. Они переливаются – синие, золотые, алые – но в их блеске нет радости. Среди шелковых переплетений бьется муха, жужжание ее назойливое, отчаянное, словно последний крик перед смертью.
– Совсем скоро купальская ночь, – шепчет девушка и хлопает ладонью по столу.
Хруст мушиных лапок, заставляет поморщиться.
Я смотрю на испачканную синюю ленту, и в горле поднимается тошнотворный ком. Выбросить. Надо сказать, чтобы выбросили. Но слова застревают где-то в груди.