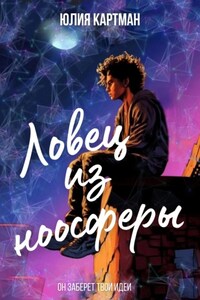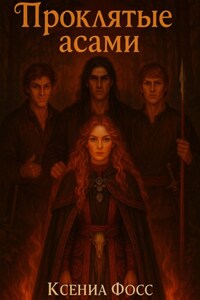Дождь шёл третий день подряд. Не тот весёлый, озорной дождик, что стучит по крышам, как пальцы по барабану, а тяжёлый, грязный, будто небо само плакало от стыда за то, что смотрит вниз – на Манчестер, на фабрики, на нас, рабов железа и пара.
Я – Джо Баклер. Двадцать восемь лет. Рабочий на текстильной фабрике лорда Эшфорда. Руки в мозолях, спина – будто её кто-то когда-то сломал и плохо склеил обратно. Жена – Мэри – умерла два года назад. От чахотки. Лежала на соломе, кашляла кровью, а я не мог купить ей даже мёду. Ребёнок – Томми – прожил шесть недель. Умер тихо, во сне. Я его так и не увидел живым – был на смене. Пришёл – а он уже холодный. Маленький, белый, как восковая фигурка. Его похоронили на общем кладбище, без имени, без креста. Просто ямка в земле – и всё.
Фабрика – мой дом. Не в смысле, где я живу. Живу я в бараке за углом, в комнате, которую делю с ещё тремя парнями. Нет окон. Нет двери – только занавеска из мешковины. Но фабрика – это место, где я провожу двенадцать часов в день, шесть дней в неделю. Где я становлюсь не человеком, а частью механизма. Где я – шестерёнка, винтик, рука, что тянет пряжу, чинит станок, затыкает дыры в системе, пока хозяева считают прибыль.
Сегодня – особенно тяжело.
Станок №7 опять сломался. Опять перегрелся. Опять я – виноват. Хотя я его чинил вчера. Но кто слушает рабочего? Кто спрашивает, почему станок греется? Кто заботится, что масло кончилось, что подшипники стёрлись в пыль?
– Баклер! – заорал надзиратель Харгривз, тыча пальцем мне в грудь. – Если к вечеру станок не заработает – ты спишь здесь. Без ужина. И без выходного.
Я кивнул. Что ещё делать? Спорить? Его кулак тяжелее моих слов. Да и слова мои – они давно выдохлись. Как угли в печке, что некому подбросить дров.
Я сел на корточки перед станком, открыл панель. Всё как всегда – грязь, пыль, ржавчина, запах горелого масла и пота. Мои пальцы, привыкшие к каждому винту, каждому шву, начали работать сами. Глаза – устали. Сердце – тоже. Но руки – нет. Они знают своё дело.
За окном – гудит город. Кареты, крики торговцев, лай собак, плач детей. А внутри – только стук, скрежет, шипение пара. И моё дыхание. Тяжёлое. Как будто я ношу на спине мешок с камнями.
– Эй, Джо, – шепнул мне Том, сосед по станку. – Слышал? Говорят, сегодня лорд Эшфорд приедет. Сам. С инспекцией.
Я фыркнул.
– Зачем ему сюда? Чтобы посмотреть, как мы мучаемся? У него, наверное, есть картины с изображением нищих – для украшения столовой.
Том засмеялся. Тихо. Страшно. Мы все давно забыли, как смеяться по-настоящему.
Но Том оказался прав.
Через час – грохот у ворот. Лязг цепей. Крики охраны. И – шаги. Медленные, уверенные, дорогие. Так ходят те, кто знает: земля под их ногами – их собственность.
Лорд Эшфорд вошёл в цех.
Высокий. Худой. Лицо – как вырезанное из мрамора: красивое, холодное, без единой трещинки сострадания. На нём – сюртук цвета вороньего крыла, с золотыми пуговицами. Перчатки – белые. Ботинки – блестят, будто их только что вылизали. Он не смотрел на нас. Смотрел – мимо. На станки. На потолок. На цифры в своей записной книжке.
– Производительность упала на семь процентов, – сказал он, не повышая голоса. Но все замерли. Даже станки, казалось, притихли. – Почему?
Надзиратель Харгривз подскочил, как загнанный пёс.
– Виноваты рабочие, милорд! Ленятся! Воруют время! Один даже спал у станка!
– Кто? – спросил лорд, наконец повернув голову. Его глаза – серые, как зимнее небо – скользнули по рядам.
– Я, милорд, – встал я. – Вчера работал двадцать часов подряд. Упал. На пять минут.
Лорд посмотрел на меня. Долго. Как на насекомое под стеклом.
– Имя?
– Джо Баклер.
– Баклер… – он что-то записал. – Тот, чья жена умерла от чахотки?