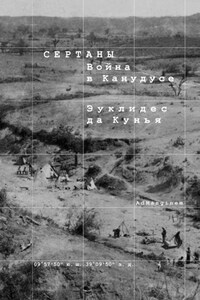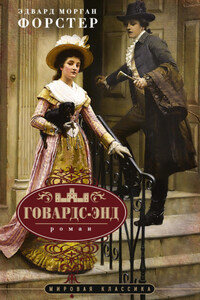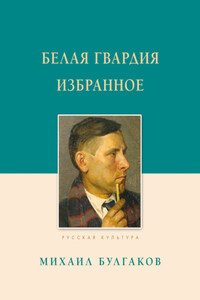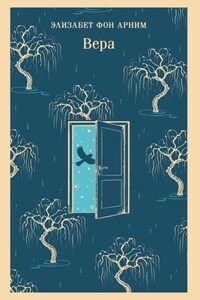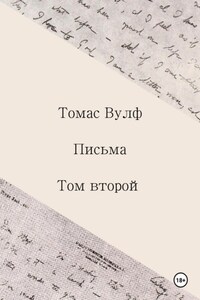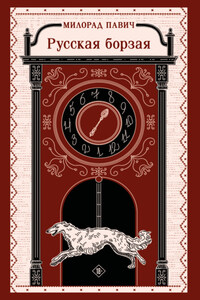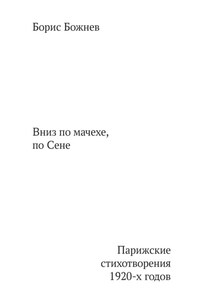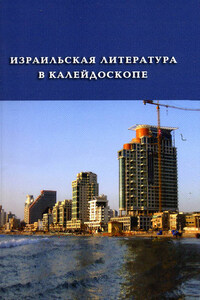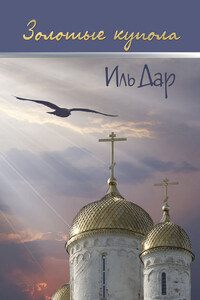Издано при поддержке Посольства Бразилии в Москве, Фонда Национальной библиотеки Министерства культуры Бразилии и Института Гимараес Роза Министерства иностранных дел Бразилии.
Переводчик выражает благодарность Виктории Миловидовой, Наталье Вихревой и Анастасии Солоповой за поддержку и ценные наблюдения, а также редактору Ольге Окуневой за неоценимые советы и плодотворное сотрудничество.
Перевод
Владимира Култыгина под редакцией Ольги Окуневой
Предисловие
Ольга Окунева
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2025
⁂
Книга, которую читатель держит в руках, является классикой бразильской литературы: в 2002 году отмечалось столетие ее выхода в свет. Однако не только по случаю юбилейных торжеств, но и без них произведение Эуклидеса да Куньи продолжает изучаться несколькими поколениями исследователей в рамках самых разных гуманитарных дисциплин, не говоря уже о всевозможных адаптациях для кино– и телеэкрана, театральных подмостков и фестивальных площадок. Научные исследования дополняются инициативами иного характера. Вот уже более двадцати лет два небольших городка в бразильской глубинке (Сан-Жозе-ду-Риу-Парду и Сан-Карлус, оба в штате Сан-Паулу), где в 1898–1901 и 1901–1903 годах в свободное от основной работы инженером время автор составлял и готовил к публикации первое и второе издания книги, ежегодно устраивается недельный фестиваль в честь Эуклидеса да Куньи и его главного сочинения; третий городок (Кантагалу, штат Рио-де-Жанейро) – в котором автор появился на свет – включился в череду таких коммеморативных мероприятий чуть позже, в 2009 году, когда широко отмечалось столетие смерти Эуклидеса да Куньи: там появился его музей, а общественности был представлен обширный научно-просветительский и культурный проект «Сто лет без Эуклидеса».
«Красивое имя – высокую честь» первой и главной книге Эуклидеса да Куньи и у современников, и у потомков обеспечили не столько ее художественные особенности, сколько грандиозность замысла: через рассказ о трагическом событии из совсем недавней истории Бразилии показать особенности формирования бразильской нации и шире – трагедию столкновения цивилизации и варварства. Энергия и страсть, с которыми этот замысел был воплощен, чувствуются и по сей день, даже если сейчас многое видится иначе (зато другое – через сто лет – оказывается созвучным новым временам).
Эуклидес да Кунья открыл само́й бразильской читающей публике мир бразильской же глубинки («серта́нов») с очень специфическим историко-культурным колоритом, показанным через призму масштабного вооруженного противоборства местного населения с правительственными силами. События этого гражданского конфликта (война в Канудусе, 1896–1897) были прекрасно известны современникам и не требовали объяснений. Чуть больше пояснений понадобится современному бразильскому читателю, однако общая канва и сейчас остается для него очевидной. Нам же, более чем сто двадцать лет спустя и на другом конце земного шара, придется подходить к книге издалека – подобно тому как нынешнему бразильцу, который начнет читать перевод «Севастопольских рассказов» Л. Н. Толстого, непременно потребуется сделать такое же усилие, только уже на своем месте.
Продолжая цепь неожиданных аналогий с «Севастопольскими рассказами», заметим, что для нас сейчас это художественное произведение, хотя современники откликнулись именно на его публицистичность и называли очерки, составившие цикл, «статьями». Толстой в Севастополе был действующим военным (артиллеристом, командующим несколькими батарейными орудиями), и при этом его рассказы воспринимаются как яркая журналистская работа. Эуклидес да Кунья – по образованию военный инженер, но занимавшийся на тот момент журналистикой – опубликовал несколько эссе о новом этапе военной кампании, приковавшей к себе взоры всей Бразилии, и в числе прочего высказал ряд профессиональных соображений о наилучшей тактике в условиях весьма своеобразной местности. Эти его рассуждения вкупе с яркой полемической окраской статей привлекли внимание издателя крупной газеты: он предложил Эуклидесу да Кунье стать корреспондентом с места событий, и тот получил возможность сопоставить свои исходные представления с реальностью. Итог оказался неожиданным: Эуклидес да Кунья действительно отправлял в редакцию донесения с театра военных действий и вел свой собственный дневник, однако полученные впечатления настолько изменили его картину мира, что книга, возникшая по итогам кампании, получила совершенно иную направленность.