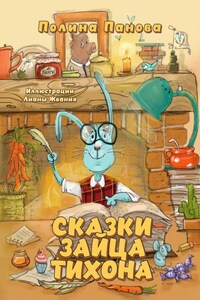Солнце висело в небе, как раскалённый медный диск, выжигая последние капли влаги из потрескавшегося асфальта. Воздух дрожал над дорогой, создавая миражи, в которых покосившиеся сараи у обочины превращались в призрачные замки, а редкие чахлые деревья – в сгорбленных стариков, застывших в немом укорe. Артём щурился, пытаясь разглядеть поворот сквозь волны марева, но изображение плыло и двоилось, словно кто-то нарочно размазывал реальность. Очки он снял ещё час назад – эти дорогие линзы с антибликовым покрытием лишь усиливали адскую жару, превращая мир в перекошенную, неестественно резкую картинку, которая резала глаза.
В редакции его дразнили «вечным романтиком». Три болезненных разрыва за последний год, бесконечные свидания через приложения, которые всегда заканчивались одинаково – он слишком быстро влюблялся, слишком глубоко погружался, слишком отчаянно цеплялся. Последняя, Катя, психолог по профессии, сказала прямо перед уходом:
– Ты как тот пёс из мультика – бросаешься на каждого, кто бросит тебе взгляд, а потом не понимаешь, почему все убегают.
Артём тогда хмыкнул, сделал глоток виски и пошутил, что, возможно, ему стоит завести собаку. Но ночью, лежа в пустой постели и уставившись в потолок, он думал, что, возможно, она права.
Машина подпрыгивала на колдобинах, и с заднего сиденья донеслись металлические звуки – это болтался старый диктофон «Весна-202», подарок главреда на последний день рождения.
– Для твоих великих сенсаций, Дон Жуан, – усмехнулся тогда шеф, зная о сердечных злоключениях Артёма. – Может, хоть техника будет тебе верна.
Артём не ожидал, что будет использовать этот раритет в какой-то богом забытой дыре, куда его отправили за материалом о пропавших людях. Он потянулся поправить диктофон и вдруг почувствовал на пальцах что-то липкое – то ли старая изолента отходит, то ли действительно кто-то когда-то оклеил аппарат скотчем.
Радио внезапно захрипело, и сквозь помехи прорвался обрывок фразы:
– …опять семнадцать… семнадцатый… не ходите…
Он вырубил приёмник, но тишина, воцарившаяся в салоне, не принесла облегчения. Воздух здесь пах теперь не только бензином, потом и старым кожзамом сидений, но чем-то сладковато-приторным, как раздавленные ягоды, оставшиеся гнить на солнцепёке.
Артём машинально потянулся к бардачку за жвачкой, и вдруг его пронзила память: так пахло в детстве у бабушки, когда она варила вишнёвое варенье – густое, липкое, с горчинкой переспелых ягод. Именно таким горьковато-сладким оказались все его несостоявшиеся отношения – обещаниями, которые не сбылись, надеждами, которые рассыпались в прах.
Впереди, из колеблющегося марева, показался ржавый указатель «Кринки – 2 км». Знак был покорёжен, будто кто-то бил по нему кувалдой, а под названием деревни кто-то выцарапал «не возвращайся».
Артём автоматически провёл рукой по щетине, чувствуя, как под пальцами выступает липкая влага. Он уже представлял себе эту деревню – дюжина покосившихся изб с прогнившими крышами, пара вечно пьяных мужиков у единственного магазина, старухи на лавочках, перемывающие косточки всем подряд. Обычная история пропавших людей, которых либо найдёт полиция, либо не найдет никто. Как и его любовные истории – либо вспыхнут ярким пламенем и быстро угаснут, оставив только пепел сожжённых ожиданий, либо так и останутся нераскрытыми тайнами, вопросами без ответов.
Но когда он свернул на последний подъездной путь, в лобовое стекло ударил слепящий солнечный зайчик, отражённый от чего-то металлического у дороги. На мгновение Артёму показалось, что на обочине стоит девушка в белом – недвижимая, как памятник, с лицом, скрытым в тени.