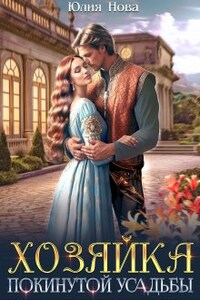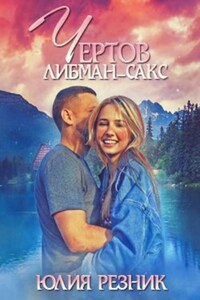Тьма вилась над Черным лесом —
мостом между Явью и Навью. Под ногу снова яма подвернулась, и я
чуть не свалилась, да за ветку ухватиться успела. Нога загудела от
боли, но делать нечего — я дальше поковыляла, вслед за тонкой
фигуркой Милавы, в темный плащ укутанной. Вдруг девица остановилась
и обернулась ко мне, блеснули в голубых глазах слезы, да такая боль
в них стояла, что сердце мое сжалось.
— Не надо вам, нянюшка… идти со
мной, — говорит, а у самой губы дрожат от страха, и пальчики от
холода уже синие.
Ох, бедная моя девочка! Такая
молоденькая, такая добрая, и за что же ей такая ужасная участь — в
замке Кощеевом заживо схорониться?
— Как же я тебя оставлю, деточка? —
проскрипела, кое как сдерживая слезы. — Неужели одну отпущу в этот
проклятый лес?
При взгляде на высокие ели, которые
раскинули во все стороны усыпанные крупными иглами лапы, сердце
похолодело, но отступать теперь некуда.
Я оглянулась, клятвенно себе
пообещав, что это в последний раз. За широким полем еще толпился
народ. Мужики — кто с факелами, кто с вилами — стерегли, чтобы мы
не сбежали. Из баб кто плакал украдкой, а кто провожал недобрым
взглядом. Не любили меня люди, да только Милавушку то за что
сгубили? Добрее нее никого во всей округе не сыскать.
— Идем, милая, — я взяла ее за руку
и повела в чащу. — Я впереди, а ты позади. Если зверь какой-нибудь
выпрыгнет или чудовище, так я отвлеку, а ты беги, беги без
оглядки.
— Возвращайся, нянюшка, —
заупрямилась Милава и даже ножкой притопнула.
— Не перечь старшим! — я тоже
характер показать умела, да только с девочкой своей любимой, почти
родной, раньше никогда так не разговаривала. Она вздрогнула,
побледнела еще сильнее, потом опустила голову и молча пошла
следом.
Так-то лучше! Пройдем по кромке леса
на восток — может, и не тронет никто. А как рассвет, выберемся и…
ох, не знаю, куда податься. Сестры мои все — ведуньи окрестных
деревень, — давно мертвы, а кому еще пойти? Может, в каком-нибудь
селе да примут — мое искусство всегда в цене, сказки да былины все
послушать любят, на кусок хлеба себе заработаю. А не примут — так
мне бы только Милавушку пристроить, а потом и помереть можно со
спокойной душой.
Шли мы долго. Милава вскоре
всхлипывать начала, да и мои старые кости заныли. Эх, по молодости
кошкой дикой по лесу скакала, никто меня ни догнать, ни отыскать не
мог. А теперь что — тело слабее пня трухлявого, еле ноги волочу.
Впрочем, я могла бы потихоньку идти еще до рассвета, но когда луна
показалась над верхушками деревьев, девочка моя присела на пенек и
спрятала лицо в ладони.
Плечи ее тихо вздрагивали, золотые
волосы, которые я еще утром в косу собирала, растрепались и из-под
красного платочка выбились, а сарафан — нарядный, бархатный с
золотой вышивкой, по подолу измазался в земле и траве.
— Идти надо, деточка, — я погладила
Милаву по голове. И сама бы отдохнула, да только чем дальше
уберемся от деревни, тем лучше. С наших еще станется проверить, в
самом ли деле мы в чащу пошли.
— Не могу, нянюшка! — всхлипнула
красавица и зарыдала уже не таясь. — Все одно — умирать мне, так
здесь или дальше — какая разница?
— А ну цыц! — прикрикнула я, теряя
терпение. — Рано тебе про смерть говорить. Знаю, что рано, и не
перечь! Посидим немного, и дальше пойдем.
Я осторожно опустилась прямо на
траву. Ноги уже ныли и даже попытки их размять не слишком помогли.
Тогда я положила руки на траву и прислушалась. Над головой шептали
листья, между стволами носился легкий ветер, и тишина — не
могильная, а лесная, наполненная едва слышными звуками, вовсе не
пугала. Вспоминались далекие годы, когда я гуляла меж деревьев и
камней, когда училась у старых гусляров и сказителей. Эх, были
времена, только в них и жила по-настоящему. Однако что это я в
прошлое ударилась? Помирать что ли скоро? Может и скоро, но до тех
пор, пока жизнь Милавушки не устрою, не дождешься, мир, буду
жить!