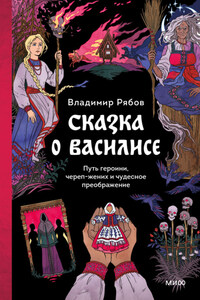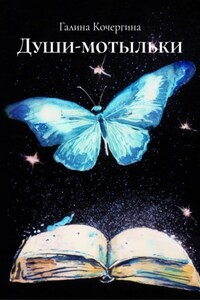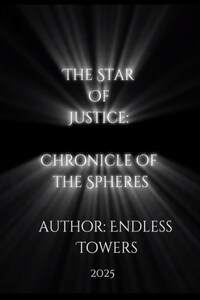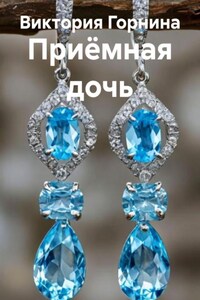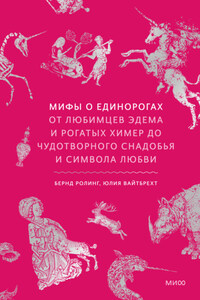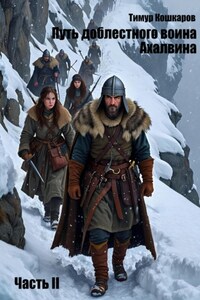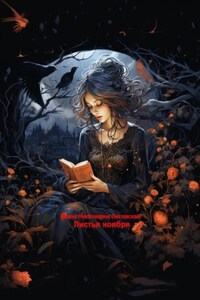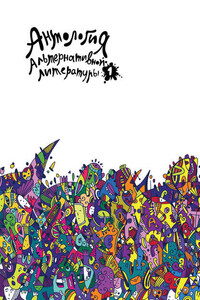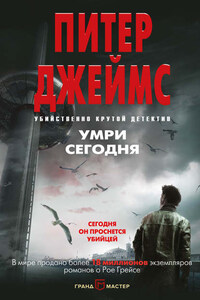Научный редактор Анна Барсукова
Послесловие Ольги Кондратовой
Все права защищены.
Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
© Рябов В., 2024
© Оформление. ООО «МИФ», 2025
⁂
Я посвятил волшебным историям значительную часть своей жизни. В детстве мифологический словарь был одной из моих любимых книжек. Я рос не слишком общительным подростком, и долгое время герои сказок и мифов оставались моими друзьями. В студенческие годы я заслушивался аудиозаписями лекций филолога Софьи Залмановны Агранович, потом были фольклорист Владимир Яковлевич Пропп, религиовед Мирча Элиаде, философ Алексей Федорович Лосев, наконец, психолог Карл Густав Юнг и его коллега и единомышленница Мария-Луиза фон Франц. И я читал сказки, несчетное множество сказок.
Свое тридцатилетие я отпраздновал успешным поступлением в магистратуру Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ)[1] на специальность «Фольклористика и мифология». В тридцать три года я плотно занялся изучением юнгианского направления психотерапии, самого «сказочного» из всех возможных. С 2014 года я рассказываю другим людям о том, что такое миф и сказка, по большому счету не приблизившись к этому пониманию ни на шаг с тех пор, как был ребенком. Отбрасывая как шелуху все то, чем миф не является, мы лишь подступаемся к тому, что и так всегда понимали и чувствовали, но для чего едва ли найдешь слова, кроме тех, что уже были произнесены много лет назад. Сейчас я могу с уверенностью сказать только то, что уже сказали мои коллеги-юнгианцы много лет назад. Мы все в какой-то мере пребываем во власти архетипических сил, которые находят свое образное воплощение в мифах и волшебных сказках, со всем их ужасом, напором и очарованием. Я убежден, что первое и лучшее из того, что мы можем сделать в этой ситуации, – это признать таинственную власть сказки над душой современного человека.

Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная». Иван Билибин, 1899 г.
Российская национальная библиотека
Мы давно привыкли воспринимать сказку как развлекательный жанр, что-то не вполне серьезное, даже детское. Но если мы присмотримся к народной сказке повнимательнее, то поймем, как она бывает откровенна, жестока, порой убийственно серьезна. Без лишней сентиментальности и долгих раздумий родители покидают детей в лесу, герой отдает своего коня на съедение волку, героиня оставляет прах мачехи и сестер и идет дальше, навстречу своей судьбе. Герои беспощадны не только к другим, но и к самим себе: Иван-царевич отрезает куски собственного мяса, чтобы накормить ими чудесную птицу и продолжить полет. Как писал тонкий знаток фольклора Владимир Яковлевич Пропп, «сказка вообще не знает сострадания»[2], она лишена морали, привычных нам представлений о добре и зле. Но если народная сказка не учит нас добру, то зачем мы снова и снова возвращаемся к ней?
Гуманитарные катастрофы XX века и события последних лет напоминают нам, как абсурден и жесток бывает окружающий мир. Сказка не указывает нам на хорошее и плохое в моральном смысле, но содержит в себе архетипический опыт выживания. И речь здесь идет не о чисто биологическом, животном выживании, а о глубоко человеческом способе бытия в мире. Рецепт выживания из сказки не имеет ничего общего с пошаговой инструкцией. Как будто минуя сознательный разум цивилизованного человека, сказка обращается напрямую к нашей душе. Как бы абсурдно это ни звучало, можно сказать, что волшебная сказка организует наш внутренний мир определенным образом. Неслучайно многие исследователи фольклора обнаруживали сходство сказки с древними ритуалами инициации и шаманскими камланиями