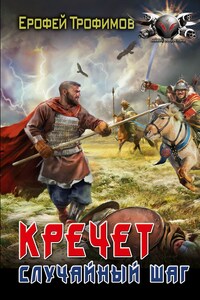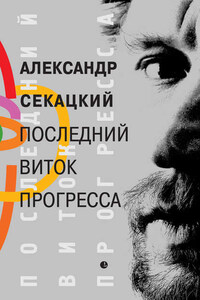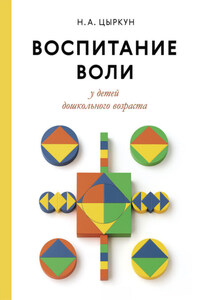Холодный ветер, проникая сквозь щели незакрытого окна, медленно заползал в комнату. Он не кричал, не свистел, не возмущался – просто дышал, как дыхание чужого мира, который ни на секунду не переставал напоминать мне, что я в нём лишний. Будильник снова взорвал тишину моим least favorite саундтреком – раздражающим писком, которому плевать на мою усталость. Я приподнялся на локтях, скинул одеяло, как будто оно виновато в том, что я проснулся, и нехотя побрёл в ванную.
Пол холодный. Ванна ещё холоднее. Но только ледяная вода, хлестнувшая мне в лицо, наконец-то привела мир в чёткость. Размыла остатки сна. Мир вокруг, тусклый и безликий, приобрёл форму, но не краски. Всё серое, будто кто-то стер палитру жизни и оставил только одну кисть – унылую, монотонную, без вдохновения.
Я посмотрел на ванну. Раньше – просто квадрат с выпуклостью. Сейчас – что-то вроде формы для заливки бетона. Место, в котором из жидкости превращаются в нечто твёрдое. Наверное, именно в этом суть всего мира. Он превращает мягкое в твёрдое. Податливое – в тупо подчинённое.
Я вытер лицо. Вдохнул. И вышел.
На кухне уже пахло подгоревшими гренками и пережаренным яйцом. Привычный аромат. Как сигнал: «Добро пожаловать в очередной день, где всё как всегда».
Мать уже сидела за столом, как будто ничего не происходило. Перед ней – завтрак. Передо мной – невыносимость быть собой.
Я опустился на стул, молча. Несколько секунд смотрел в тарелку. Яичница, как всегда. Даже жёлток треснул, будто сдался.
– Мааамм… – протянул я с ленивым надрывом, будто собирался просить невозможное. – Можно… хотя бы сегодня не идти в школу?
Она не отреагировала сразу. Сделала глоток чая. Будто я снова сказал что-то банальное, как «доброе утро».
– Нельзя, Парвум, – ответила она, не повышая голоса. – Сколько можно тебе повторять. Один день пропустишь – на следующем уроке ничего не поймёшь. А потом как снежный ком: всё больше, больше, больше… и всё – отстанешь навсегда.
Я закатил глаза, но не вслух. Только внутри. Голос – усталый, почти жалобный:
– Да зачем она мне, эта школа, мам… Я в десятом. Оценки всё равно в аттестат не идут. Я бы после девятого ушёл, ты же знаешь… но это ты настояла, не я…
Мать повернулась ко мне, в её взгляде – всё то же. Беспокойство, обёрнутое в банальность.
– Ты не понимаешь, – начала она, как будто читая с заезженной пластинки. – Не важно, что оценки за десятый не идут в аттестат. Важно, что ты получаешь знания. Чтобы в одиннадцатом было легче. Чтобы в жизни было легче.
Легче… – я едва не фыркнул.
Легче жить в этом бетонном аквариуме с обоями времён Советского Союза? Легче вставать, когда будильник орёт тебе в ухо, как дежурный по камере? Легче быть никем? Без лица, без голоса, без шанса?
Я посмотрел на неё. Хотел ответить что-то острое. Больное. Что-нибудь, чтобы она наконец поняла, что я – не она. Что я не живу ради графиков, оценок, сертификатов.
Но я не сказал ничего. Только тяжело вздохнул и пробормотал с плохо скрываемым раздражением:
– Хорооооошооо…
– Вот и славно. Давай доедай и иди одевайся, а то ещё в школу опоздаешь, – сказала мама с кухни, не оборачиваясь. Сказала это так, будто передо мной был не день, а наказание. Очередной день.
Я посмотрел на тарелку. Та же самая яичница. Словно время застыло. Как будто каждое утро – это дежавю, навязчивая петля из желтков и соли. Я молча доел – не от голода, а по инерции. Просто чтобы было что-то в желудке. Просто чтобы не спорить. Просто чтобы запустить тело в ещё один мёртвый день.
Она говорила: «еда – это энергия». А мне казалось, что это топливо, которое сгорает впустую, как если бы пытался завести заглохший двигатель.
Я поднялся, вяло отнёс тарелку в раковину, даже не глядя, упала ли она ровно. Затем, будто на автопилоте, натянул школьную форму – безразмерную, как будто она была пошита сразу для всех, чтобы мы все выглядели одинаково бессмысленно. В сумку полетели учебники – точнее, кирпичи. Мёртвые, скучные, чужие.