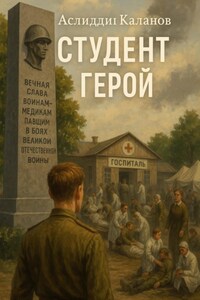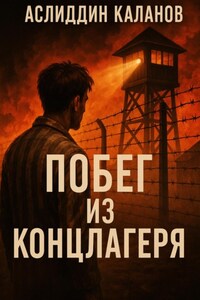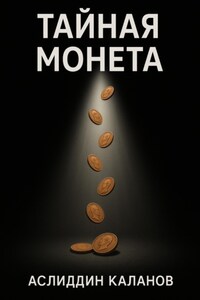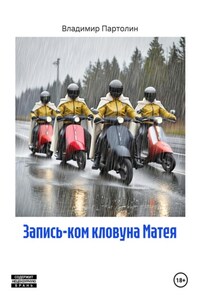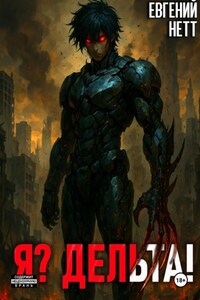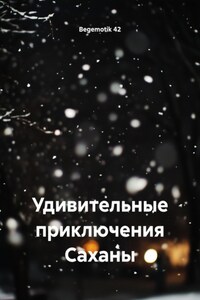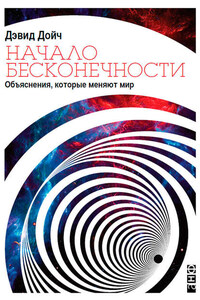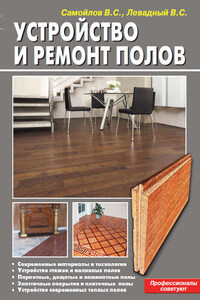Глава 1. «Сомнения»
Иногда Андрей Грачевский задумывался: что бы он делал, если бы мог повернуть время вспять и заново выбрать, куда поступить? Вопрос возвращался к нему, как навязчивая мелодия, которую вроде бы забываешь, а потом вдруг снова начинаешь напевать себе под нос.
Он задавал его себе по утрам, когда брился, глядя в зеркало в узкой ванной общаги, и поздними вечерами, сидя над книгами, от которых веяло усталостью и скукой. И каждый раз честный ответ звучал одинаково: не знал бы.
В свои двадцать с небольшим Андрей чувствовал себя так, словно прожил уже целую жизнь, полную колебаний и сомнений, но не решений. Он никогда не был героем, не умел рваться вперед, не мечтал изменить мир.
Родители хотели, чтобы он стал врачом: семья была большая, несколько поколений медиков, и эта профессия для них казалась чем-то вроде фамильного герба.
Для Андрея – скорее тяжестью. Он видел, сколько ночей отец проводил дежуря в больнице, как мать приходила домой усталой после смены.
Но тогда, когда нужно было выбирать, он не знал, что хочет сам. А против семейного желания пойти в медицину не хватило ни воли, ни дерзости.
Так он оказался в медицинском институте. И теперь, сидя в большой, чуть душной аудитории с высокими потолками, слушая размеренный голос лектора, он все чаще ловил себя на мысли: а нужно ли это ему самому?
Андрей родился и вырос в провинциальном городе, где всё было медленным и привычным, как течение реки, пересекающей его с севера на юг. Обычный дом из красного кирпича, длинные коридоры школы, магазин за углом, где продавщица знала всех в лицо.
В детстве он любил кататься на велосипеде по набережной и смотреть, как по реке идут баржи. Летом обгорал на солнце, а зимой катался с горки во дворе, часто рвал новые варежки и приходил домой весь в снегу.
Он рос тихим мальчиком, которого редко ставили в пример. Не хулиган, не отличник – «нормальный парень», говорили про него учителя. На уроках мог сидеть с отстраненным видом, глядя куда-то в окно, и только когда учитель задавал вопрос, быстро возвращался в класс и отвечал правильно.
У него была странная способность: не слушать, но всё схватывать.
У Андрея рано появилась привычка наблюдать за людьми. Ему нравилось замечать, как одноклассник ерзает на стуле перед контрольной, как соседка с четвёртого этажа всегда поправляет волосы перед зеркалом в лифте, как отец перед тем, как ответить на важный звонок, невольно потирает переносицу.
Он собирал эти детали, как коллекционер редкие марки. И когда оставался один, думал об этих людях, представлял, о чём они мечтают, чего боятся.
В старших классах он полюбил читать. Читал всё: от фантастики до классики. Иногда мог провести целый вечер с книгой, забыв про уроки. Он любил не столько сюжет, сколько то, как слова складываются в образы, а образы – в живых людей, которых можно почувствовать.
Иногда, дочитав страницу, он возвращался к началу, перечитывал медленно, чтобы уловить, как автору удалось создать настроение одной только фразой.
Учёба в институте оказалась совсем другой, чем он представлял. В первые дни его захватил интерес: новые люди, лекции по биологии, анатомии, запах формалина в анатомичке, который въедался в одежду и не выветривался ещё долго.
Ему нравились беседы с однокурсниками о том, как устроено тело человека, нравились рассказы старших курсов о практике в больнице. Но очень быстро восторг сменился усталостью.
Дни стали одинаковыми. Утром спешка, чтобы успеть на пару. Потом несколько часов лекций, где лектор говорил, не глядя в аудиторию, а студенты старательно писали конспекты.
Иногда Андрей тоже писал, но чаще машинально рисовал на полях: профили людей, глаза, руки. Он смотрел на лекторов и думал: почему они, такие умные и опытные, говорят так, будто их самих это не интересует?