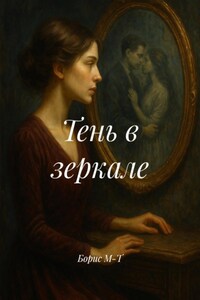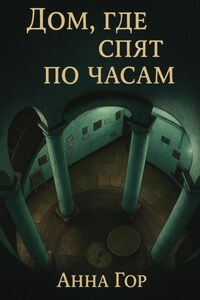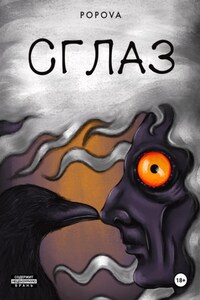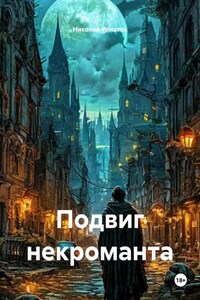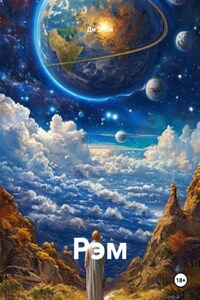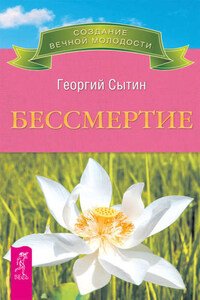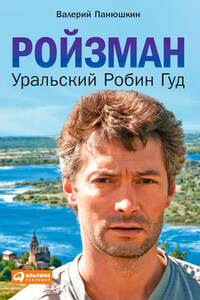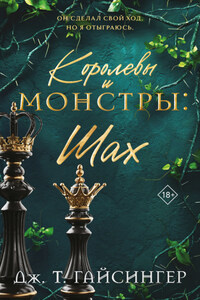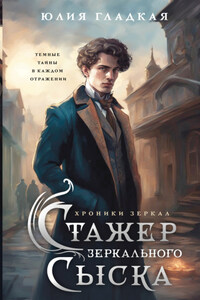Глава 1.
Москва задыхалась в холодных объятиях поздней осени. Небо хмурилось весь день, словно древний титан, готовый обрушить на город всю тяжесть своего недовольства. К вечеру дождь усилился – не ливень, нет, а вязкий, холодный, как промозглая вуаль, которая липла к стёклам домов и лицам прохожих. Узкие улицы Арбата, где ютилась мастерская Анны Власовой, выглядели почти театрально в свете жёлтых фонарей: тени, отражения, капли – всё сливалось в один живой акварельный мазок, где реальность смешивалась с отголосками забытых эпох.
Анна Власова, тридцать четыре года, реставратор антикварных зеркал, включила настольную лампу. Тёплый свет разлился по мастерской, отбрасывая знакомые тени на стены, увешанные инструментами и эскизами. Её руки, тонкие, с коротко остриженными ногтями, привычно скользнули по деревянной поверхности верстака. Здесь, среди баночек с растворителями, тончайших колонковых кисточек и мелких инструментов, она чувствовала себя в безопасности. Здесь никто не задавал лишних вопросов о том, почему она предпочитает общество старинных предметов живым людям, и не напоминал о том, что было.
Мастерская занимала первый этаж старинного особняка в Сивцевом Вражке, который чудом уцелел во время бурной реконструкции центра Москвы. Анна снимала это помещение уже восемь лет, с тех пор как решила уйти из музея и заняться частной практикой. Высокие потолки с деревянными балками создавали ощущение старинной европейской мастерской. На полках стояли флаконы с химикатами, аккуратно подписанные её каллиграфическим почерком – привычка, приобретённая ещё в университете, где она изучала искусствоведение и музееведение.
В углу стоял старый проигрыватель – наследство от бабушки – рядом с коллекцией виниловых пластинок. Музыка помогала Анне концентрироваться: классика – для сложной реставрации, джаз – для рутинной работы.
Бабушка, Анна Васильевна Орлова, была учителем истории в одной из московских школ. Именно она привила внучке любовь к старине, к предметам, которые хранят память о прошлых эпохах. "Каждая вещь имеет душу," – говорила бабушка, показывая семейные реликвии. "И наша задача – эту душу сохранить."
На запястье у Анны поблёскивало серебряное кольцо с небольшим аметистом – единственное, что осталось от матери. Она машинально поворачивала его, когда нервничала или глубоко задумывалась. Эта привычка появилась после развода с Сергеем, два года назад, когда жизнь разделилась на «до» и «после». «До» – это была счастливая семья, маленький сын, планы на будущее. «После» – одиночество, работа как спасение от мыслей.
Две потери определили её жизнь: смерть семилетнего сына Тимура от лейкемии три года назад и последовавший за этим развод. Тимур был необычным ребёнком – серьёзным, вдумчивым, любил читать энциклопедии и задавать вопросы, на которые взрослые не всегда знали ответы. «Мама, а куда деваются души умерших людей?» – спросил он однажды, когда болезнь уже начала забирать его силы. «Они остаются в наших сердцах, солнышко», – ответила тогда Анна. Теперь она не была в этом так уверена.
Сергей не смог пережить утрату вместе с ней. Постепенно боль превратилась в раздражение, а потом в отчуждение. После похорон он заявил: «Ты любишь эти старые зеркала больше, чем любила нас». Может быть, он был прав. В отражениях прошлых веков она находила покой, которого не могла дать живая жизнь. Зеркала не умирали, не предавали, не причиняли боль – они просто существовали, храня в своих глубинах отголоски давно ушедших дней.
Работа с антикварными зеркалами требовала особого подхода. Венецианские зеркала XVIII века отличались тонкостью стекла и изысканностью резных рам. Русские зеркала XIX века несли в себе особую душевность, отражение национального характера. Каждая эпоха оставляла свой отпечаток: в стекле XVIII века можно было найти мельчайшие пузырьки воздуха, в амальгаме XIX века – частицы серебра и олова.