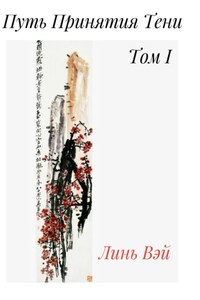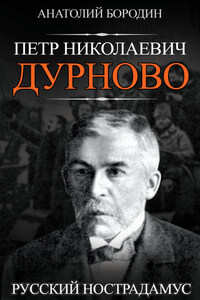Кирилл Орлов вышел из вагона на мокрую, пахнущую креозотом и морем платформу, и Соленый Яр тут же обнял его, как давно потерянного, но нежеланного сына. Объятия были холодными, влажными и липкими. Туман, густой, словно скисшее молоко, висел в воздухе, пожирая верхушки редких фонарей и превращая их в размытые желтые пятна. Он оседал на лице мелкими, колючими каплями, проникал под воротник пальто, заставляя ежиться. Воздух был тяжелым и плотным, пропитанным запахами гниющих водорослей, йода и той особой, ни с чем не сравнимой тоской, которая присуща только приморским городам в конце осени. Здесь даже тишина казалась осязаемой, давящей, нарушаемой лишь далеким, протяжным стоном противотуманного горна и истеричными вскриками чаек, невидимых в белесой мгле.
Он не был здесь восемь лет. Восемь долгих, стремительных лет, пролетевших в суете московских проспектов, в гуле серверов и мерцании кода на мониторах. Там, в его мире из стекла и бетона, реальность подчинялась логике, а проблемы решались алгоритмами. Здесь же, в Соленом Яре, казалось, само время текло иначе – вязко и неохотно, как смола по стволу старой сосны. Город не изменился. Все те же обветшалые двухэтажные дома с темными от сырости кирпичными боками, все те же скользкие, отполированные миллионами шагов и дождей булыжные мостовые, все тот же ржавый указатель с облупившейся краской, на котором едва читалось «Вокзальная улица». Кирилл почувствовал, как рациональная броня, выкованная в столице, начинает трескаться под натиском этого иррационального, первобытного уныния. Он сжал ручку чемодана на колесиках, и звук, с которым они покатились по брусчатке, показался оглушительным, непристойным в этой сонной тишине.
Телефонный разговор с сестрой два дня назад выдернул его из привычной колеи. Голос Алины в трубке был тонким, дребезжащим, как натянутая струна. Она говорила о страхе, о том, что город стал чужим, враждебным. Что по ночам ей слышатся шаги за окном, а днем кажется, будто тени в углах сгущаются и следят за ней. Кирилл, разумеется, списал все на осеннюю депрессию, на замкнутую жизнь в городке, где главным развлечением были сплетни и похороны. «Возьми отпуск, приезжай в Москву, развеешься», – предложил он тогда, чувствуя укол вины за то, что так долго не навещал ее. Но Алина отказалась. «Нет, я не могу уехать. Оно меня не отпустит», – прошептала она, и это детское, суеверное «оно» заставило Кирилла купить билет на ближайший поезд.
Пока он шел к ее дому, город неохотно открывал ему свои тайны. Из тумана выплывали силуэты редких прохожих – сгорбленные фигуры в темных пальто, которые при виде него опускали глаза и ускоряли шаг. Чужак. Вернувшийся блудный сын, давно ставший чужаком. У дверей единственного продуктового магазина, тускло светившего вывеской «Дары моря», курили двое пожилых рыбаков в просмоленных робах. Их низкие голоса доносились до Кирилла обрывками фраз сквозь влажную вату тумана. «…уже третья неделя пошла…», «…море таких шуток не любит…», «…говорят, лодку нашли пустую, а сети целые…». Он понял, что они говорят о пропавшем рыбаке, Степане Крюкове, о котором вскользь упомянула и Алина. В Москве это была бы строчка в криминальной хронике. Здесь – событие, окрасившее весь город в тона тревоги и дурных предзнаменований.
Дом Алины стоял на Морском проспекте – название было слишком громким для этой тихой улочки, упиравшейся в набережную, где серое небо сливалось с серым морем. Двухэтажное здание из красного кирпича, потемневшего от времени и влаги, казалось, впитывало в себя всю окружающую меланхолию. Кирилл поднялся по стертым каменным ступеням на второй этаж, чувствуя, как с каждым шагом нарастает необъяснимая тревога. Он позвонил в дверь. Тишина. Позвонил еще раз, настойчивее. Наконец, за дверью послышался шорох, щелкнул один замок, потом второй. Алина всегда была беспечной, никогда не запиралась на все засовы.