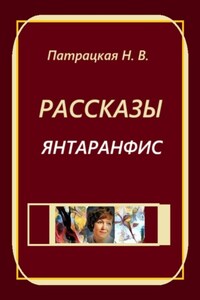Автобус, скрипя разболтанными дверями, выплюнул Алексея Гордеева на размытую дождем обочину, когда луна висела в мутном небе низко и немигающе – круглая и желтая, как глаз спящего хищника. Не волка, пожалуй, а чего-то более древнего и терпеливого. Дизельный вздох, клуб черного дыма, и рыжая машина, похожая на уставшее животное, рванула с места, не дожидаясь, пока пассажир достанет из багажного отделения свою увесистую сумку.
Водитель, мужик с треснувшим клыком и синеватой татуировкой на шее, уходящей под воротник, на мгновение приоткрыл дверь.
–Тебе точно сюда? – спросил он, прикуривая. Искра от зажигалки осветила на мгновение его обветренное, недоверчивое лицо. Едкий дым дешевых сигарет смешался с сырым туманом, поднимающимся от земли.– Это село у Черной Речки нынче почти не жилое. Одни старухи доживают, да забредшие рыбаки… да и… – Он резко замолчал, будто споткнулся о собственные слова. Его взгляд метнулся в сторону темнеющего леса, а пальцы сами собой сложились в фигуру, и он быстро, почти судорожно, перекрестил себя, а потом, странным жестом, заляпанную грязью форточку над своим сиденьем. – Ладно, счастливо оставаться! – бросил он уже через плечо, резко захлопнул дверь, вжал в пол педаль газа. Автобус с пробуксовкой развернулся на скользкой дороге и, подпрыгивая на ухабах, быстро скрылся за поворотом, оставив после себя гулкую, давящую тишину.
Тишина эта была неполной. Где-то капало с листьев, шуршала в придорожных кустах невидимая живность, и чуть слышно бормотала сама Черная Речка, невидимая за полосой деревьев. Дорогу освещали три редких слепых фонаря, свет которых не столько разгонял тьму, сколько подчеркивал ее густоту, ложась на асфальт блеклыми, большими пятнами.
Алексей взвалил сумку на плечо и зашагал по знакомой, утоптанной тысячами ног, а теперь разбитой и пустынной дороге. Через несколько шагов он замер. Позади раздавалось чавканье – влажное, ритмичное, будто кто-то невысокий неотступно ступал по лужам след в след. Он резко обернулся, сердце на мгновение ушло в пятки. На дороге, в мутных лужах, оставались свежие мокрые следы.
«Не мудрено, ведь только что прошел дождь», – попытался успокоить себя Алексей. Но что-то было не так. Он наклонился, всмотрелся. И ледяная игла пронзила его вдоль позвоночника. Следы были маленькие. Совсем детские. Босые. И они обрывались в двух шагах позади него, будто тот, кто их оставил, просто испарился в сыром воздухе.
Он выпрямился, сглотнув комок в горле. «Воображение, – сурово приказал он себе. – Усталость с дороги. Сквозняк». Он отогнал навязчивые мысли, плотнее перехватил ремень сумки и зашагал быстрее, почти бросился вперед, стараясь не вслушиваться в звенящую тишину, в которой теперь явственно слышалось только его собственное неровное дыхание.
Село, в которое он вошел через несколько минут, за двадцать лет его отсутствия ничуть не изменилось. Оно не просто не изменилось – оно застыло, как фотография в старом альбоме, которую вот-вот тронет желтизна. Только краска на ставнях облезла еще больше, крыши покосились еще сильнее, а палисадники утонули в буйных, никем не сдерживаемых зарослях лебеды и лопуха. Воздух пах мокрой древесиной, дымом из одной-единственной трубы и прелой листвой – знакомым, детским запахом, от которого накатила тоска, острая и невыносимая.
Он шел мимо темных окон, мимо покинутых домов с заколоченными глазами-окнами, и сомнения, дремавшие в нем всю дорогу, поднялись с новой силой, сжимая горло. «Зачем? – спрашивал он себя, сверкая подошвами по мокрой траве. – Зачем я вернулся? Что я надеялся здесь найти?» Он бежал от столичного шума, от бесконечных дедлайнов, от предательства, которое оставило в душе горький осадок, – бежал в единственное место, которое когда-то называл домом. А дом встретил его слепой, равнодушной пустотой и чьими-то босыми мокрыми следами на темной дороге. Может, не стоило сюда ехать. Может, некоторые двери лучше навсегда держать закрытыми. Но было уже поздно. Он стоял на пороге. Осталось только сделать шаг.