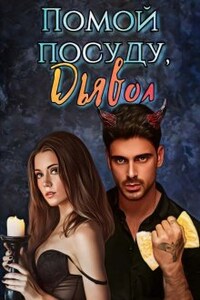— Око за око! Зуб за зуб!
Звенящие от злости голоса поглощает вязкий ночной туман.
Мои ступни тонут во влажном мху. Жесткая обувь пропиталась
водой, отчего зябкая сырость проникла под кожу, добралась до вен и
ледяными мурашками растеклась по телу. Нос щекочет кислый запах
болота и едкий дым: горят отсыревшие и покрытые плесенью снопы
льна. Добротная бы из них холстина получилась, да паводок затопил
сарай. Недолго староста горевал, что столько добра пропало, — нашел
им достойное применение.
— Сжечь ведьму!
Злобные выкрики заставляют оцепенеть сильнее, чем от холода.
Народ пока только стекается к расчищенной посреди колючего леса
поляне, и воплей мало: подзуживают толпу лишь Заряна, Ладислава, да
Мария с Олегом. Так будет не долго. Скоро сельчане разогреются,
войдут в раж — и пропаду я, если не смогу сбежать.
Осторожно дергаю кистями рук, но удача сегодня не на моей
стороне. Веревка крепкая, и от движения она только сильнее
впивается в заледеневшую кожу. Митя, мой единственный друг, мог бы
подсунуть старосте гнилую пеньку. Мог! Но и он, вслед за
остальными, трусливо переметнулся на сторону моих сестер.
Ледяные мурашки бегут по коже. Босые озябшие ноги утонули во мху
уже по самую щиколотку. Перевожу взгляд на седовласого старца и
посох в его руке и, чтобы не стучать зубами от холода, крепче
сжимаю челюсти.
Старец нервно теребит бороду, кривит рот, и я вижу его
желтоватые зубы.
Отблески огня освещают угловатые фигуры односельчан. Мой взгляд
беспорядочно мечется от одного лица к другому, но ничего, кроме
оскалов, я не замечаю. Толпа завелась и рычит.
В отчаянии я мотаю головой. Этого не может быть. Просто не может
быть.
А пламя все пожирает снопы льна. Оно гудит и потрескивает,
сыплет искрами.
От толпы отделяется высокий широкоплечий мужчина. Его грубый,
словно вытесанный из камня подбородок напряжен, а от недоброго
взгляда исподлобья мое сердце проваливается в груди и затихает.
Медленно шагая, здоровяк движется в мою сторону.
Ближе.
Еще ближе.
До моих ушей долетает шуршание травы под его ногами.
Пусть имя его Богдан, а облик напоминает наши отражения, все
равно он пришлый. Много лет назад Серафима нашла среди болот
младенца в плетеной корзине. «Мне его Род послал», — сказала она
тогда. И никому не позволила даже прикоснуться к найденышу.
Вырастила его как сына. Теперь чужак возмужал и принялся подминать
общину под себя.
Запахи вереска и жасмина обволакивают, проникают в горло,
перекрывают дыхание, и я захожусь в кашле. Мужчина подходит так
близко, что я могу дотянуться до него ступней.
— Покайся богам, Дарина. — Он жадно ощупывает глазами мое лицо и
спешно поднимает голову к чернильным облакам. — Это твое последнее
слово.
Ветер стихает, воздух становится душным. Вспышка молнии
разрубает небо пополам. Сельчане замолкают, а потом и вовсе
склоняют головы к земле.
Моя участь предрешена.
— Перун с нами! Покайся и…
— Это не я, — против воли из моего горла вырывается хрип.
Хриплю я не от страха. Обвинение в отравлении мачехи настолько
серьезно, что бояться уже поздно. Это приговор, и вынесут мне его с
минуты на минуту. Впрочем, ожидать другую участь было бы
наивно.
Я и не жду.
В яме, в которую меня посадили до суда, я насквозь продрогла, и
теперь голову словно сжимает раскаленный обруч, а в груди полыхает
костер, не меньший, чем тот, который разожгли в центре поляны мои
еще недавно добрые соседи.
Я облизнула пересохшие губы, и изо рта вырвалось облачко
пара.
— Думаешь, сможешь оправдаться?
Я и не заметила, когда Богдан успел преодолеть последние
полшага, разделявшие нас. Теперь, широко расставив ноги, он стоит
совсем близко. От просвечивающего насквозь взгляда его голубых глаз
мурашки царапают кожу.