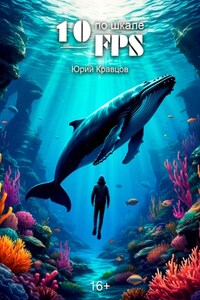Город горел. Не отдельными пожарами – нет. Он тлел и пылал целиком, как гигантский костер, раздуваемый ледяным мартовским ветром. Воздух был густым и едким: сладковато-приторный запах горелого пластика, резины и чего-то невыразимо мерзкого – человеческого – смешивался с резким химическим смрадом и вездесущей гарью. Эта адская смесь въедалась в легкие, в одежду, в самую кожу. Она была вкусом этого места, этого времени. Вкусом конца.
Суджа больше не была городом. Она была лоскутным одеялом из руин, припорошенных грязным, тающим снегом. Когда-то аккуратные улицы превратились в лабиринты смерти. Дома стояли с вывороченными кишками – зияющие черными глазницами окон, обрушенными крышами, стенами, изрешеченными осколками и пулями, как шрапнелью. Остовы машин, оплавленные и искореженные, перегораживали переулки, образуя стихийные баррикады. Тротуары исчезли под слоем битого кирпича, стекла, обломков и… другого мусора, который старались не замечать.
Тупик. Именно это слово висело в промерзлом, пропитанном порохом воздухе. Тупик на улицах. Тупик в тактике. Тупик в надеждах. Наши и чужие – замерзшие, изможденные, ожесточенные до скрежета зубно – закопались в этих руинах. Линия фронта проходила не по карте генералов. Она змеилась по подвалам, через черные дыры проломов в стенах, по траншеям, вырытым прямо посреди асфальта между развороченными грузовиками. Она измерялась не километрами, а метрами. Иногда – десятками шагов. Шаг влево, шаг вправо – и ты либо в "своем" подъезде, либо в "их" воронке от снаряда.
Цена каждого метра здесь исчислялась кровью. Горькой, липкой, быстро чернеющей на морозе кровью. Каждое окно, каждый угол дома, каждый подвал – это был плацдарм, за который дрались с яростью загнанных зверей. Выбить врага из соседнего дома – это не тактическая победа, это глоток воздуха. Это возможность чуть развернуться, чуть перевести дух, чуть подтянуть боеприпасы или вынести раненого. Или не вынести.
Каждый метр стоил жизней. Молодых, не успевших пожить. Опытных, прошедших огонь и воду. Жизней тех, кто еще вчера пил с тобой чай из жестяной кружки в каком-нибудь относительно целом подвале, шутил сквозь усталость. А сегодня его тело, закутанное в плащ-палатку, уже лежит в снегу за углом, ожидая своей очереди на вечность. Каждый метр поливался свинцом, рвал плоть осколками, давил обрушивающимися стенами.
Вот она, цена. В истощенных, обмороженных лицах бойцов, прилипших к прицелам в промерзших огневых точках. В дрожащих руках санитара, пытающегося перевязать разорванную артерию под вой мин и свист пуль. В бессильной ярости командира роты, который знает: послать людей вперед – значит отправить их на верную смерть в этом каменном мешке, но и оставаться здесь – значит медленно истекать кровью всей ротой.
Город стонал. От разрывов артиллерийских снарядов, с воем врезавшихся в руины. От трескотни автоматных и пулеметных очередей, эхом отражавшихся от мертвых стен. От гудения беспилотников – этих стальных стервятников, высматривающих добычу с серого неба. От тихого, прерывистого плача где-то в глубине подвала. От хриплого кашля, вырывающегося из груди замерзшего часового.
Суджа горела. Она была крематорием, где сгорали не только дома, но и надежды, и жизни, и сама человечность. Тупик. Каждый метр – смерть. Каждый шаг – ад. И в этом аду, среди воя ветра, воя мин и воя боли, рождалось отчаяние. Отчаяние, которое иногда – только иногда – может породить нечто невообразимое. Нечто безумное. Как ползти пятнадцать километров по газовой трубе в самое пекло. Но это будет потом. А пока… пока был только горящий город, тупик на улицах и невыносимая цена каждого шага по этой проклятой, растерзанной земле.