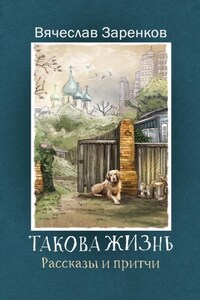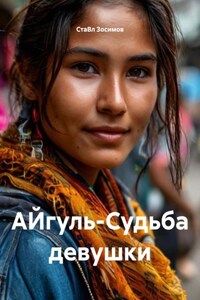Сегодня я убью своего отца.
Нельзя сказать, что мысль эта была для Андрея новой, что он только что сформулировал ее. Скорее наоборот: он давно ее вынашивал или, лучше сказать, она в нем жила, потому что вынашивал – значит согревал, обдумывал план действий и заботился о его исполнении, а ведь на самом деле никакого плана не было – он не знал, как это точно произойдет, чем сделает это. И мысль эта просто жила в нем сама по себе, и когда он ее произнес, то есть достал откуда-то из глубины и показал самому себе, это была очень знакомая и простая вещь, которая не вызвала восторга, удивления или трепета. Она пробудила в нем не больше чувств, чем программа телепередач, которую он видел каждый день на журнальном столике общей гостиной в «Лесной сказке», где собирались старики и где он провел последние три года.
Единственное, что он ощутил в тот момент, да и то мгновением позже, после того как обозначил свое намерение, – это презрительное отвращение, но даже не к жертве, не к самому факту ее убийства, а к ее существованию. Такое отвращение испытывает, пожалуй, дезинсектор к тараканам, когда они хрустят под резиновой подошвой новехоньких ботинок, которые ему только что выдало начальство. Он уже считал их своими и даже планировал прогуляться в них вечерком (нужно будет только прикрыть брючиной шеврон на голенище с названием фирмы) и очаровать их блеском какую-нибудь девицу, но теперь вынужден ступать по ковру из насекомых, растаптывая вместе с ними и свои грандиозные планы.
Комната Андрея находилась на четырнадцатом этаже гостиницы «Иртыш». Самая дешевая, которую предлагали почти за бесценок из-за ее потолка, потому что с него свисал прямо по центру прямоугольный беленый короб, занимающий две трети всего пространства. Так что, входя, постояльцы попадали в узкий коридор и могли обойти комнату только по периметру. Кровать стояла ровно под коробом, но надо отдать должное смекалке работников гостиницы, которые подпилили ее ножки так, что на нее можно было вкатиться боком и вполне комфортно переворачиваться во сне. Был, правда, еще один нюанс, о котором умалчивали и горничные, и портье, и метрдотель. За коробом был спрятан двигатель служебного лифта. Это становилось ясно, когда постояльцы, попавшиеся на удочку собственной скупости, обнаруживали его нестерпимый гул.
Особенно часто его было слышно рано утром, когда горничные собирались на пересменку, вечером – по той же причине, в середине дня – когда они готовили номера к новому потоку гостей, и еще добрую сотню раз в день, когда официанты и горничные поднимались и спускались на нем, исполняя прихоти и нужды своих постояльцев. Двигатель затихал только после полуночи, когда заканчивался рум-сервис. Но ровно в пять утра снова раздавался щелчок (кто-то нажимал кнопку вызова), затем нарастающее «у-у-у-у», которое сопровождалось металлическим скрежетом (железный трос наматывался на вал), – и все это происходило прямо над головой и представлялось в воображении так ясно, что очумевшие от шума гости ощущали всем телом каждую деталь невидимого механизма и могли, казалось, разобрать и собрать его по запчастям с закрытыми глазами. Это неприятное обстоятельство не сглаживало даже панорамное окно от пола до потолка, которое открывало незавидному постояльцу уходящий за горизонт город со всеми его бесчисленными трубами, беспрестанно чадящими и отравляющими легкие его жителей.
Но ни у Андрея, ни у Джонни (которая еще спала) не было возможности снять номер лучше, так как почти все, что они накопили за год (каждый день вытаскивая из пожертвований Свидетелей), потратили на проживание в этой гостинице.