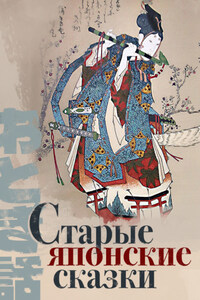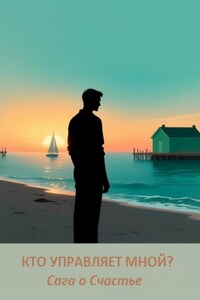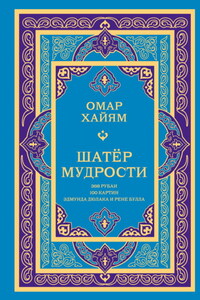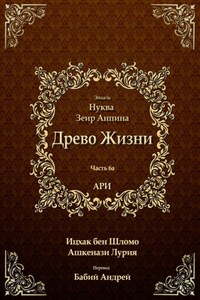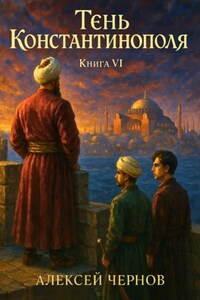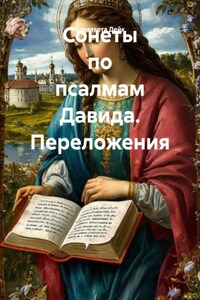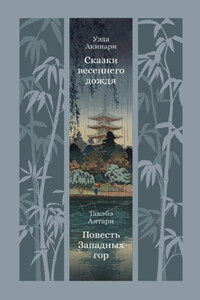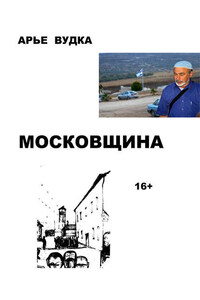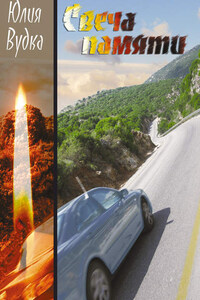Раскрывая томик китайской поэзии, каждый станет искать в нём что-нибудь своё, особенное – но чьи ожидания обманутся от встречи с поэтическим миром, который оставил нам Ван Вэй, классик «Золотого века» эпохи Тан? У него – и образ отшельника, что вглядывается в холод осенних гор или перебирает струны гуциня в бамбуковой роще; и размышления о бренности бытия под стрекотанье ночного сверчка; и зарисовки удалой жизни воина на границе; и трогательные сцены расставания с другом на речной пристани. Он не был ни настоящим философом, ни в полном смысле отшельником, ни романтическим бунтарём, круто поменявшим свою чиновничью жизнь, но сумел вдохновить многие поколения чувствующих так же поэтов и художников, в том числе за пределами Китая. Знаменитый в особенности пейзажными стихотворениями, Ван Вэй мог передать душу пейзажа или иной наблюдаемой им картины и объяснить через её посредство душу человека, делая это в прозрачной и ясной манере, которая приводила в восхищение современников и стала одним из образцов стиля. Порой не столько лирические, сколько философские, исторические, географические, его стихи выказывают дисциплину мысли и точность описаний, представляя нам документ эпохи, интересный как для любителя поэзии, так и для исследователя.
Современники запомнили его как человека многогранного дарования – поэта, художника, каллиграфа, музыканта. В зрелые годы он проявил себя и как литератор в широком смысле, автор трактатов. Его поздняя поэзия насыщена буддийской философией, подчас с оттенками полемики. Не только в поздних, но и в ранних текстах Ван Вэй обнаруживал яркий ум и широчайшую эрудицию. Таланты его вообще открылись рано: приехав в столицу в 15 лет как сын провинциального чиновника, уже к 19 он, благодаря искусной игре на лютне, поэтическим способностям и остроумию стал вхож в аристократические дома и познакомился с членами августейшей семьи. Всего через пару лет успешно прошёл высший императорский экзамен и был назначен руководителем придворной музыкально-танцевальной труппы. Рассказывали, что, глядя однажды на картину, изображавшую исполнение музыки, Ван Вэй точно определил по запечатлённым позам музыкантов название исполняемой пьесы, её часть и даже номер такта. Если считать это анекдотом, то он имел под собой почву.
В его произведениях проглядывает деликатный, впечатлительный, вдумчивый и добрый характер, присущий столь одарённым людям. И было закономерным, что всю жизнь Ван Вэй углублялся в буддийскую веру, «врастая» в неё – быть может, даже пришёл бы к монашеству, отпусти ему судьба ещё несколько лет. Как бывает у глубоких художников, имелась в палитре личности Ван Вэя и некоторая двойственность, контраст: любовь к медитативному уединению соперничала с невозможностью отказа от чиновничьей стези; а порядочность и ответственное отношение к службе не помешали подпасть под влияние, а возможно и посулы, мятежников, изменив законному государю, итогом чего стало раскаяние и ещё больший уход в себя.
Становясь с течением лет всё более знаменитым поэтом, он сам когда-то перестал считать поэзию, да и вообще слова, хорошим способом передачи смыслов:
>…Вздор говорят, что был в прошлой жизни писакой —
>Был я художник в прежнем своём воплощенье…
>(«Случайные стихи», ч.6)
Его прижизненная слава художника была, пожалуй, не менее велика. Он вошёл в историю создателем новой техники живописи тушью; ему приписывают основополагающие трактаты «Тайны живописи» и «Рассуждения о живописи». В каллиграфии Ван Вэй превосходно владел как уставным, так и скорописным почерком. Говорили, что его художественная каллиграфия не менее прекрасна, чем его картины. Императорская коллекция, описанная в эпоху Сун, насчитывала 126 его картин на свитках шёлка: это были виды гор, рек, дорог, переправ, заснеженных перевалов, усадеб и павильонов, деревенских рынков, купеческих караванов. Были портреты чань-буддийских наставников, архатов, учеников Будды, а ещё поэта Мэн Хаожаня, декламирующего стихи. Ван Вэй расписывал не только шёлк, но и стены монастырских двориков и особняков знакомых. Оригинал «Картины Ванчуаня» – панорамы любимой усадьбы поэта и её окрестностей – был написан им на стене местного храма. Пейзаж тушью на шёлке «После снега на берегу реки», оригинал которого приписывают Ван Вэю, изображает величественную перспективу, увенчанную справа заснеженным горным пиком. От него к центру картины спускаются всё более близкие к зрителю планы – река, холмы, деревья, корабль, домики и, наконец, в самом низу две крошечные, но хорошо различимые человеческие фигурки, мирно болтающие, встретившись на улице. Эта последняя деталь отвечает представлению о человеке как неотъемлемой, но всё же микроскопической части естественного мира. Другие пейзажи, по словам современников, показывали фантастические зрелища извилистых, поросших соснами гор и потоков, окутанных плывущими облаками причудливых форм – знак духовной свободы художника.