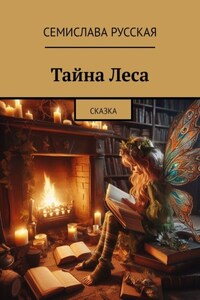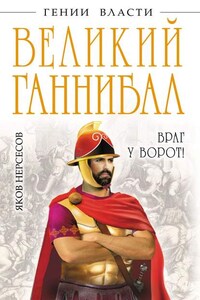Это был очень странный год с бесконечно холодной и промозглой осенью, как-то особенно неуютно запертый между заканчивающимся ковидом и толком тогда еще не начавшейся войной.
Да еще этот дождь… Чувствуешь себя прям как в аквариуме.
Если не хуже.
Ну да ладно…
Я, вообще-то, осень люблю, это еще с детства, когда после долгих, под конец уже наскучивших летних каникул возвращаешься в никогда не бывающую скучной Москву.
Но именно в такую погоду осень у меня всегда однозначно ассоциируется с кладбищем.
Возможно, детская травма.
До сих пор с содроганием вспоминаю, как мы в такую же погоду с мамой в детстве бабушку на Троекуровском хоронили. Очень уж ее, помню, любил: бабушка была очень теплая и уютная.
А после смерти стала совсем холодная и чужая.
Может, еще что…
И кладбища я как раз с тех самых пор очень не люблю, по возможности стараясь избегать походов туда. Даже когда надо проститься с кем-то, кто что-то серьезное для тебя в этой жизни значил.
Кем-то, кто-то, что-то…
Сейчас хотя бы, наверное, попробую объяснить почему…
Только сначала Леське отвечу.
Вот она.
Нашла, сначала глазами.
Кивнула.
Потом кому-то пожала руку.
Кому-то подставила холеную нарумяненную щеку для почти невинного, сестринского поцелуя.
Подошла неторопливо.
Ага…
Угостилась протянутой сигаретой: она сегодня у меня уже пятую, наверное, стреляет, а куда деться.
Понимание, в общем.
В сложившихся обстоятельствах ее длинные «лайтовые» игрушки – разве что людей смешить.
А у меня хоть крепкие гвозди.
Еще с кавказских «военкоровских» времен легкие сигареты курить вообще не могу – баловство и бессмысленный перевод времени и продукта. Это все знают. И она, естественно, в том числе.
– На поминки тоже не поедешь? – глубоко затягивается, выделяя симпатичные ямочки на щеках.
Актриса, что тут поделаешь.
Все она понимает.
Красивая…
И черное ей очень даже к лицу…
Пожимаю плечами.
– А смысл? Со Стасом мы попрощались, когда он еще жив был. Задолго до. И больше вообще не разговаривали. А этот гниющий кусок мяса к нему никакого отношения не имеет. Это безобразие просто надо зарыть, потому как это не он. И плохо пахнет. Но надо же соблюсти ритуал. А я не умею соблюдать ритуалы, меня в детстве не приучили. Не знаю, плохо это или хорошо.
Леська зябко поеживается.
Отрицательно качает головой.
Снова затягивается.
– Стас бы тебя, наверное, понял, – прищуривается.
Враз утратив всю искусно продуманную кукольность внешности профессиональной инженю, от которой единственное, что остается – идеально гладкая, кажущаяся почти искусственной кожа. И большие голубые глаза.
Сейчас, кстати, опасно сузившиеся.
– Стас тебя бы понял, – повторяет как можно медленнее, вычеканивая каждое слово. – Я – нет.
Снова жму плечами, выкидываю докуренную до половины сигарету.
И тут же прикуриваю следующую.
Во рту и без того было горько, а сейчас и вовсе противно.
Достаю из внутреннего кармана уже влажного, даже под плащом, «рабочего» пиджака плоскую, обтянутую тонкой выворотной кожей флягу с добротным ирландским самогоном.
Взбалтываю.
Делаю серьезный глоток – а куда, извините, денешься?
И погода совершенно мерзкая.
Да и повод тоже, в общем-то – не алё.
– Будешь? – интересуюсь.
Леська безапелляционно отбирает у меня флягу.
Отхлебывает.
– Фу, – передергивается всем телом. – Как ты эту гадость пьешь-то хотя бы?