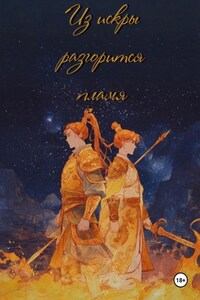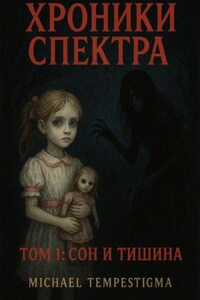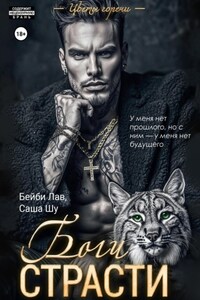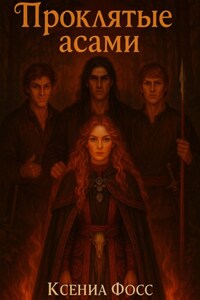Часть I. Сначала была тишина Глава 1. Дом, где все скрипит
Сначала я подумал, что это зверь. Он пришел ночью и лег на крышу. Распластался на брюхе – и дышал, дышал, дышал, как меха в кузнице: вдыхал наш воздух, а выдыхал – пустоту. В его животе бурчало, как в старом колодце, а хвост елозил из стороны в сторону и шаркал по стенам. Мне снилось, будто у этого зверя лапы из трещин, шерсть из пыли, а глаза, как наши окна, только грязнее. Я просыпаюсь от его взгляда. Он пах пеплом и голодом.
Мама уже стоит у плиты. Она вся желтая от солнца, от муки, от света, который падает на лицо растекшимся желтком. Она молчит. У нас в семье мало кто говорит, разве что я, но обо мне позже.
Зверем оказалась засуха.
Она пришла снова, как и в прошлом году, и в позапрошлом. Только каждый раз притворялась новым зверем. То была как шакал, то как козел, теперь – как лев или медведь. Она села прямо на поле, лениво разлеглась, и кукуруза замерла, как замирает жертва при виде хищника: «Стой, не двигайся, притворись мертвой, он скоро уйдет.»
Я выхожу на улицу босиком. Земля горячая и шершавая, как хребет у лошади. Мама всегда твердит беречь ботинки и попусту их не стаптывать, где потом взять новые? Свои я надеваю, когда холодает, и ступни быстро сводит от холода. Только вот нога у меня растет предательски быстро, и пальцы теперь приходится поджимать, чтобы влезть в ботинок. У отца ступня огромная, длинная и широкая, а кожа темная и грубая, что на ноге, что на ботинке, не отличить.
В голову почему-то приходит:
«Жара на спине, как плуг на земле,
а небо скрипит, как дверь в песке».
У нас скрипит все. Пол. Ворота. Даже хлеб. Когда его ешь, он скрипит на зубах, потому что мама кладет в него кукурузную муку, которая все помнит. Она помнит, как росла, как сушилась, как пеклась в печи, и не хочет ничего забывать. А еще, потому что муки мало, и в хлебе попадаются древесные опилки и песок. Песок попадается вообще везде: между пальцами, под ногтями, в кровати, в карманах и в волосах.
Отец с рассвета уже во дворе. Он кует. Он всегда кует. Даже, когда ничего не ломается. Каждый день он обязательно выковывает один новый гвоздь и куда-нибудь его забивает: в дверной косяк, в забор или в землю. Я не спрашиваю, зачем он так делает. Никто не спрашивает. Отец сам похож на молот, только с глазами. Он говорит редко, его слова – гвозди: короткие, острые, и все на них держится. Я знаю, что если он скажет «принеси» – это значит, неси клещи. Если «досмотри» – это к скотине. Если «не так» – все, переделывай с начала. Пальцы у него – ржавые грабли, и лоб как доска, на которой писали мелом и сразу стирали, а царапины оставались.
Мы с братьями сидим на ступеньках. Старший ковыряет ногтем заусенец. Средний крутит веревку. Я смотрю, как летают мухи, и тихо пою:
«Отец – как дуб,
а я – как куст.
Он – как…»
Тут же получаю тычок в бок.
– Опять сочиняет, – бурчит старший. – Молчи лучше.
Я замолкаю. Но внутри продолжаю:
«…Он – как удар,
а я – как хруст.»
У меня внутри всегда кто-то поет. Иногда голос мой, иногда чей-то другой, может, мамин, может, бабушки, которую я даже не знал. Из кухни пахнет хлебом. Мама месит тесто, словно спорит с ним. Тесто скрипит в миске. Все у нас скрипит. Даже воздух утром. Мушка, наша старая корова, снова выломала доску из забора. Мы слышим, как она недовольно топает. Она ломает забор каждую неделю, то ли из вредности, то ли есть у нее какой-то особый план.
Отец бросает молот, идет. Мы встаем и тоже идем. Таков порядок. Наш ритуал. Берем, кто что: я – веревку, средний – топор, старший – лом. Мы идем за отцом след в след. Там, за загоном, начинается настоящий день, долгий, тягучий. Мы чиним доски, ругаемся, пинаемся. Мы устраиваем битвы. Настоящие, но понарошку. Без палок, но с кулаками. Без правил, но с кодексом. В битвах всегда кто-то умирает, чаще всего я. Иногда по очереди, но в основном только я.