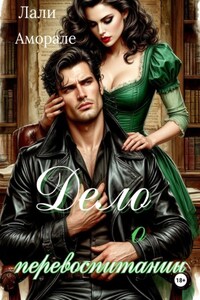Глава Первая: Песнь Угасающей Стали
Три солнца Аэлиона, некогда сиявшие на небосводе в величественном, неумолимом вальсе – золотое Арион, багровое Ксерион и холодное, серебристое Митриль – ныне были похожи на угасающие угли в гигантском камине мироздания. Они не погасли еще окончательно, но свет их стал болезненным, жидким, отбрасывающим неясные, уродливо вытянутые тени, которые словно бы пожирали самую суть вещей, оставляя после лишь блеклую оболочку былого великолепия. Эра Угасания, как окрестили нынешние времена придворные летописцы, дышала на ладан, и вместе с ней медленно, но верно умирала империя, раскинувшаяся когда-то от Непроходимых Хребтов до Безбрежного Моря.
И нигде эта агония не чувствовалась так остро, как в родовом поместье Валерьенов, что ютилось на отшибе столичного острова, подобно старому, верному псу, забытому умирать у порога дома, где когда-то его любили. Сам особняк, выстроенный из темного базальта и призрачного белого мрамора, еще хранил в своих строгих, величественных линиях отголоски былой мощи, но теперь он походил на великолепную гробницу, чьи обитатели давно превратились в пыль, а стражи погрузились в летаргический сон. Сады, некогда утопавшие в зелени и пении фонтанов, ныне буйно заросли сорняком и колючим шиповником, а по мраморным статуям предков, державших в руках символы своей власти – молоты, звезды и свитки, – ползла черная, неотмываемая плесень, словно сама природа решила стереть память о них.
Но истинное сердце угасания билось не в залах с проржавевшими доспехами и не в парке, а в Великой Кузнице. Именно здесь, под сводами, которые когда-то не могли вместить весь гул и звон рождающихся шедевров, теперь царила тишина, столь густая и всепоглощающая, что ее, казалось, можно было резать ножом и подавать на серебряном блюде как изысканное, но отравленное яство. Воздух, вечно пропитанный сладковатым запахом раскаленного металла, древесного угля и пота, теперь был неподвижен и смердителен, отдавая остывшим пеплом, пылью веков и горьким привкусом окончательности.
В этой гробнице былой славы, среди теней, принимавших причудливые очертания забытых инструментов, Лиресса Валерьен чувствовала себя более живой, чем где бы то ни было еще. Она стояла посреди огромного зала, у центральной наковальни – монолита из черного вулканического стекла, на котором, по преданиям, был выкован первый клинок для первого императора. Ее ладони, покрытые сетью тонких серебряных шрамов – безмолвной летописью ее тайных упражнений, – лежали на холодной, идеально гладкой поверхности камня. Она закрыла глаза, отключив зрение, чтобы лучше слышать.
И она слышала.
Сквозь гробовую тишину до нее доносился глухой, едва уловимый гул – не звук, а скорее вибрация, отзвук великой симфонии. Это была Песнь Металла. Она слышала тихое, дремучее ворчание наковальни, помнившей удары молотов титанов; едва слышный, надтреснутый шепот ржавых щитов на стенах, повествующих о былых битвах; тонкий, почти музыкальный звон забытых в углу заготовок, мечтающих обрести форму. Для Лирессы это не был просто шум – это был голос самого дома, его душа, увядшая, но не умершая, и она была единственной, кто мог его расслышать. Этот дар, эта проклятая и благословенная «чувствительность», как называла ее покойная мать, была всем ее наследием, единственным, что не отняли у ее рода ни время, ни алчные кредиторы, ни равнодушие империи.
Ее собственные мысли, тревожные и тяжелые, вплетались в эту печальную музыку. Сегодняшний визит сборщика был не просто оскорблением; это был последний гвоздь в крышку гроба ее семьи. Человек с глазами, холодными, как монеты, и улыбкой, острой, как бритва, деликатно намекнул, что земли Валерьенов, последнее, что у них осталось, могли бы неплохо выглядеть в составе владений патриция Вальтура, чье влияние и богатство росли с той же скоростью, с какой угасал свет солнц. Мир больше не нуждался в кузнецах, даже в таких, как Валерьены. Мир нуждался в выживших, в падальщиках, готовых разорвать еще теплый труп прошлого на куски.