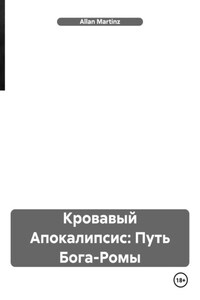Ненавистью рожден, кровью вскормлен, истину крепко усвоил – жизнь вечная дарится в наказание. По делам, по мыслям, по черным мечтам. Волокусь сквозь столетья, костями и пеплом дорогу к смерти мощу. Стучусь в Преисподнюю, списком злодейств и свершенных преступлений трясу, а в ответ слышу: «Ступай прочь, ты слишком мало грешил». Оттого, видать, и смеюсь, лаю, аки пес на луну, щерю в усмешке пасть. Неприкаян, себе противен, всеми отвержен, свободой и проклятым бессмертием пьян.
Дни костенели в безмолвии, порождая тени сомнений и робкие призраки старых надежд, раз за разом запуская бесконечную земную юдоль. Рух Бучила, известный праведник и местами едва ль не святой, валялся на заботливо притащенном сене и пялился в покрытый трещинами сводчатый потолок. Тьма рождала новую тьму, дымчатый зимний рассвет раз за разом угасал в розовых вспышках морозных закатов, навевая мысли о тщетности бытия. И ведь всего лишь хотел чутка подремать. Месяца три. Но сон упорно не шел. Рух пытался считать умильных единорожиков, ворочался с боку на бок, залезал головой под подушку и надрывно вздыхал. Решившись на крайние меры, выполз из подземелья наверх и устроился в развалинах башни, продуваемой всеми ветрами и занесенной колючим снежком. Где-то слышал, будто на свежем воздухе спится лучшей. Ага, хер там бывал. А все от переживаний нервенных и беспрестанных великих забот. Год выдался неспокойным даже по мерке обычно и без того сверхпоганых годов. Лето стояло испепеляюще жаркое: горели леса, тлели вонючим дымом торфяники, пересыхали реки, чернел на корню урожай. Спешно собранные из разного отребья команды бочками возили воду в поля, спасая главную ценность – хлеб. От жары людишки с размахом и фантазией сходили с ума. В Новгороде разорившемуся кузнецу видение снизошло, возомнилось ему, будто жара ниспослана по грехам нашим тяжким и к осени весь мир непременно сгорит в адском огне. Как оно водится, вокруг одного дурака быстренько организовались другие и нареклись церковью «Последнего пламени». Блондились по городу, выли на папертях, пугали людей. Обещали скорый конец света, да не срослось. Осенью ливанули дожди, пророчество не сбылось, и обидевшийся на Бога кузнец затворился с паствой в молельной избе и запалил к чертям собачьим весь балаган. Живьем зажарились тридцать семь человек. Ага, а говорят век Просвещенья грядет. Брешут, сукины дети. Как был народишко глуп, так будет и есть.
Случалось и похуже чего. Возле Олонца взялась шалить белоглазая чудь, банда нелюдей, рыльников в двести, попыталась взять нахрапом Важеозерский мужской монастырь, но монахи, успевшие затворить ворота, похватали оружие и отбили два приступа, дождавшись подхода драгунского полка графа Ланге. Чудь, не принявшая боя, растворилась в черных лесах, оставив солдатам разоренный посад: угли, пепел и куски человеческих тел. Погоня ничего не дала, и тогда полковник Ланге приказал истреблять чудские поселки. Пленных не брали. Ненависть разжигала ненависть, и не было ей конца.
В мире, по обыкновению, творилось неладное. Польша и Тевтонский орден, в прошлом году заключив очередной «вечный мир», в этом взялись за старое и устроили грязную приграничную заваруху, разорив без счета селищ и деревень, и, не преуспев на поле боя, затеяли безобразно препираться на папском суде, обвиняя друг дружку во всевозможных смертных грехах.
В Швеции, в лесах южнее озера Меларен, открылся Нарыв, выплеснув по примерным подсчетам тысяч десять всяких богомерзких тварищ. Жуткое полчище, уничтожая все на пути, дошло до Стокгольма, где и разбилось о стены укрепленной столицы. Новгородский сенат выказал королю Карлу безмерное сочувствие, но на деле все, от канцлера до распоследнего бедняка, радовались соседскому горю. Шведы впервые за последние лет двадцать не тревожили новгородских границ.