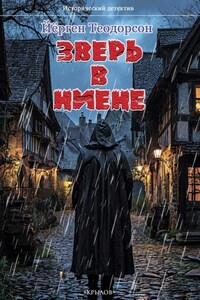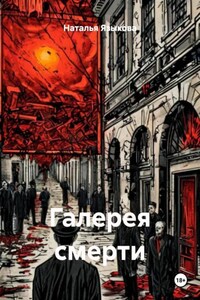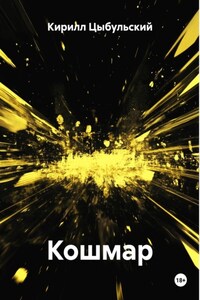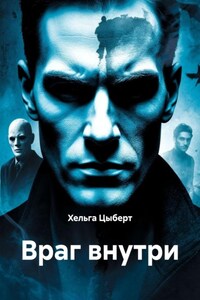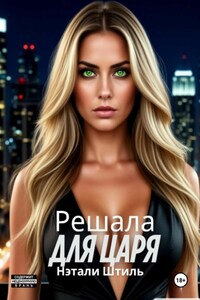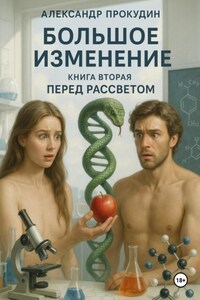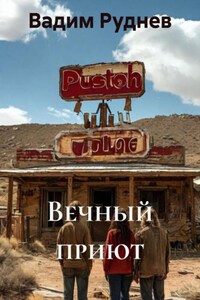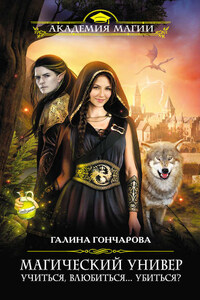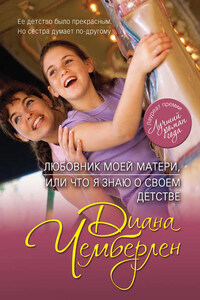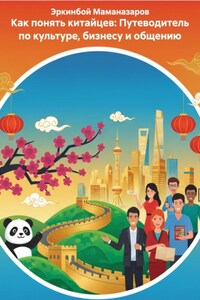Ужасы ночи больше ужасов дня, ибо грехи ночи превосходят грехи дня.
Томас Нэш, 1594 г.
Не будь тьмы, человек не ощутил бы своего порочного состояния.
Блез Паскаль, 1660 г.
На Ильин день 1644 года от Рождества Христова ночная гроза срубила крест на шпиле ниенской кирхи. Остался горелый обломок в форме виселицы, словно скрюченный перст, укоряющий небеса за несправедливую кару. А утром крестьяне из Спасского нашли возле нарвской дороги тело пропавшей девицы Уты, дочери шорника Тилля Хооде.
Весь день у городских весов и на рынке только и разговоров было, что о горе и о проклятье. Ута ушла из дома накануне днём, и больше её никто не видел. Паромщик клялся, что не перевозил девицу на левый берег Невы. То же говорили и лодочники. Никто не знал, как она перебралась через широкую реку. Будто сам Сатана подхватил и унёс бедняжку в лес, чтобы на перекрёстке надругаться над ней, а потом рассечь когтем шею до самого хребта.
Так всё и началось, глубоко войдя в судьбы бюргеров Ниена и других его обитателей, затронув гарнизон Ниеншанца[1], живущий в крепости и вокруг неё.
Из Архангельска он уехал, когда вошёл в силу. Всем он рассказывал одно и то же:
«Отец твердил мне – ты пятый сын, куда тебе дома расти? Здесь без тебя тесно. Не допущу грызни, чтобы Мальсены друг у друга торг перебивали и фамилию позорили. Смотри на братьев. Андрей в Холмогорах торгует, Фадей в Вологде лавку завёл, и ты не пропадёшь. В Норвегии показал себя знатно, с людьми ладить умеешь, как никто из наших. Языки схватываешь на лету. Дуй к шведам в Ингрию, – настаивал отец. – На Неве торговля сей год открывается. В Ниене русских привечают, а ты, к тому же, и швед на четверть. Тебе сам Бог велел. Наследство я товаром и деньгами выдам тебе при отъезде».
Егор Васильев сын Мальсен пришёл с обозом из Новгорода в шведский край, названный Ингерманландией. В покинутой земле остались лежать кости его деда Эрика Малисона, который взял да и перебрался в Архангельск, принял подданство русского царя, православную веру, отстроил дом и дал начало их роду. Отец был единственным потомком, но у него сыновей родилось пятеро. Он их гнал, кроме старшего, Олега, которому должны были достаться дом и магазин, да второго, Мартына, прирождённого моряка, коему отходили семейные шнеки.
«Дед ваш лёгок был на подъём, вы тоже Малисоны, ищите, где лучше, – так говорил мне отец. – Кто успел, тот и съел».
Егор Мальсен съел кусок от щедрот короля Густава II Адольфа. В новом городе, освобождённом Смутой и войной от русских, новые законы благоприятствовали торговле. С двадцатых годов король заселял обезлюдевший край ссыльными датчанами и охотно привечал беженцев из германских земель пересидеть опустошительную войну, но с расчётом, что они останутся здесь навсегда. Из Новой Финляндии приезжали селиться лесные финны-савакоты и своеобычные карелы-эвремейсы. Местные крестьяне, ижора-ингрекоты и водь-ваддиаляйсет, были с ними одной крови и одного бога, но разных языков и различных конфессий. Те из славянских земледельцев, кто не бежал на Русь до закрытия границы, из русских сделались шведскими, но остались православными. В их пестроте нашлось место и помору. Егор Васильев сын Мальсен прибыл с серебром, ворванью, лосиными шкурами и благими намерениями. В ратуше он записался Малисоном, как дед.
Он быстро стал разговаривать на наречии местных финнов и языке северных германцев – платтдойч, улучшил уже знакомый шведский и сделался желанным посредником в сделках между русскими купцами и местными перекупщиками.
Он занял свободное место в новом городе и заполнил его собою.
В растущем Ниене было где развернуться, и Егор не собирался долго жить гостем, как русский купец. Через год сладился с пастором Генрихом Мартенсоном, возведённым в дворянское достоинство под именем Фаттабур, чьи службы посещал исправно, и тот поручился за него перед бургомистрами и кронофогтом.