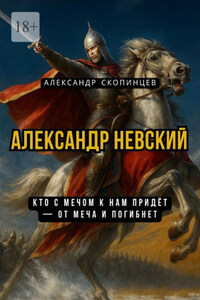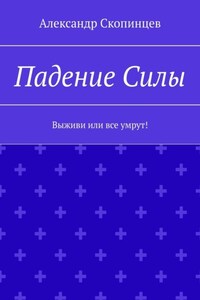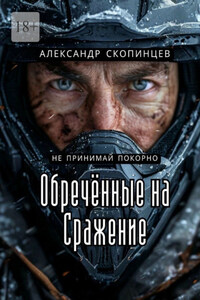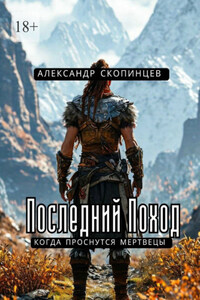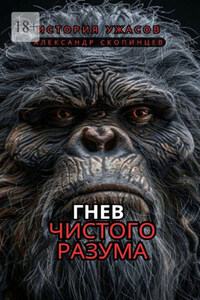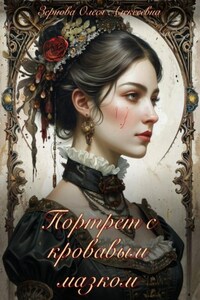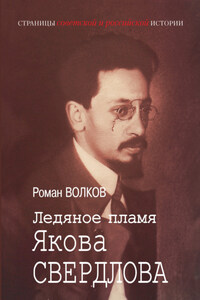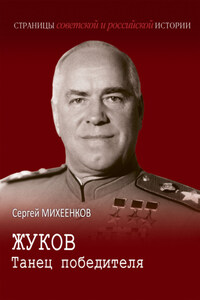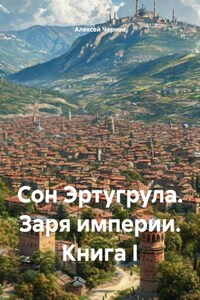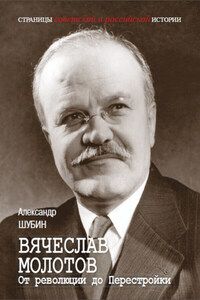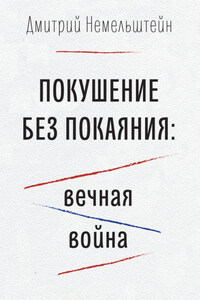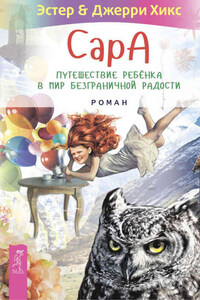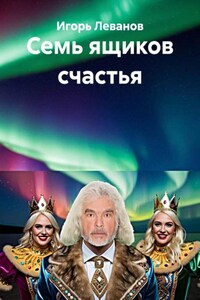Лето от Сотворения Мира 6740-е, от Рождества Христова 1230-е
В те дни, когда солнце русское померкло от дыма пожарищ, а земля православная стонала под копытами иноземных коней, разделилась Русь на многие княжения, словно разбитый меч на острые осколки. Не стало более единой державы от Новгорода до Киева, от Смоленска до Рязани – каждый град стоял особняком, каждый князь держал свою волю, а враги, аки волки голодные, окружали русские пределы со всех сторон света.
На западе, за частыми, будто сплетёнными из мрака и смолы, псковскими и новгородскими лесами, начинались земли иного духа – суровые, каменные, под тяжестью готических крестов и чуждой речи. Там, где замирают ветры над болотами и хвойные чащи обступают дороги, начинались владения рыцарей – немецких и датских, меченосных и надменных, что скрывали под белыми плащами с чёрными крестами мечи и холодную волю покорителей. Там, в Ливонии, Орден Меча, некогда укоренившийся в землях эстов и ливов, оставил за собой след из пепла и крови – селения выжженные дотла, капища сокрушённые, веру обратившуюся в страх.
Тысячи язычников были крещены не словом, а железом, не молитвой, а кнутом. Но жажда завоевания не знала предела: алчные взоры рыцарства устремились теперь на земли православные – туда, где звонили колокола и кадился ладан, где святые лики смотрели со стен храмов, и крестились люди, как завещано им от праотцев.
На том пути первым стоял Псков – молодой, но гордый, как крепкий дуб рядом со старым лесным исполином. Он был младшим братом Новгорода, наследником вольных обычаев, той же веры, того же языка и закона. Псков не просто хранил западную заставу – он был щитом, прикрывавшим путь к самому сердцу вольной земли, к Новгороду, где вече держали мужи, где купцы с воском и мехами вели дело с дальними странами, где народ сам избирал своих посадников и судей.
Дорога к Новгороду шла через Псков – через его стены, башни, через руки его воев и дружин. И потому взгляд крестоносцев, повёрнутый на восток, всегда натыкался прежде на город, что стоял на камне у воды, в кольце стен, и в нём звучала та же молитва, что и в Новгороде, – на русском языке, с православным знаменем.
Потому и тревога гнездилась ныне в душах: не за один город стоял вопрос – а за всю землю от Пскова до Великого Новгорода, за душу народа, за право жить, по совести, своей, а не под плетью чужого закона.
Рим папский благословлял сии завоевания, нарекая их «священной войной за истинную веру». Булла папы Григория IX гласила: «Да будут обращены в истинную веру все народы северные». А король датский Вальдемар Победоносный и епископ рижский Альберт слали послания во все концы германские, призывая рыцарей к походу на Русь. Обещали им отпущение грехов и богатые земли за службу верную.
На севере, в водах студёных Балтийского моря, господствовали корабли шведские под знамёнами ярла Биргера. Швеция тех времён крепла под властью конунга Эрика Эрикссона, и мечтали шведы о том, чтобы воды Невы и Ладоги стали их внутренними морями. Католическая церковь шведская разжигала рвение воинов, нарекая поход на Русь «делом богоугодным» и «крестовым походом против схизматиков». Биргер Магнуссон, ярл могучий и воин искусный, собирал дружины под знамёна трёх корон шведских, готовя удар по землям Руси.