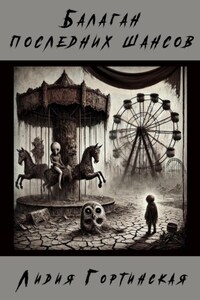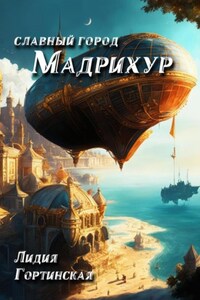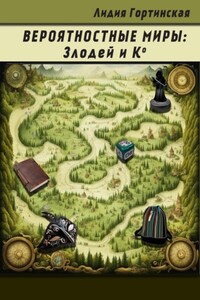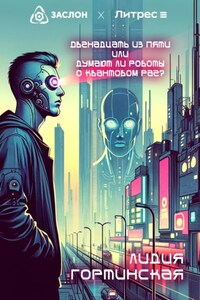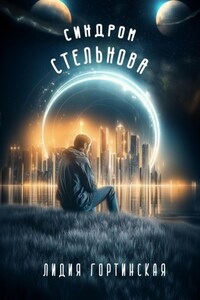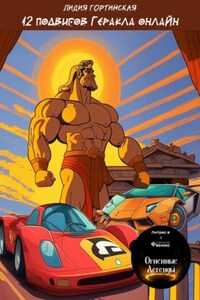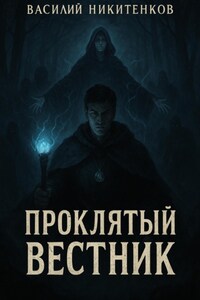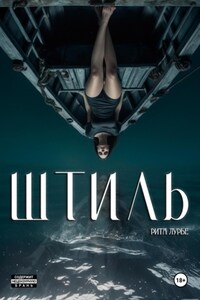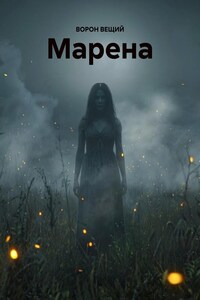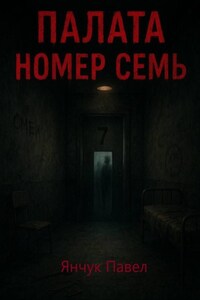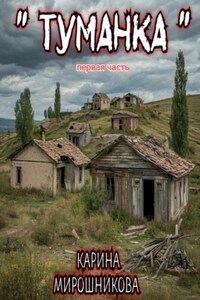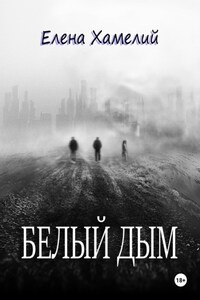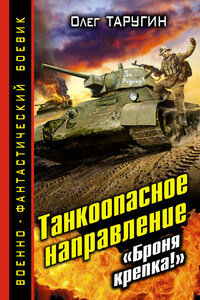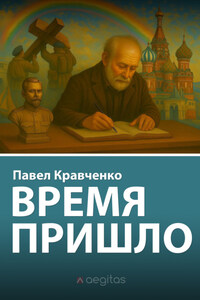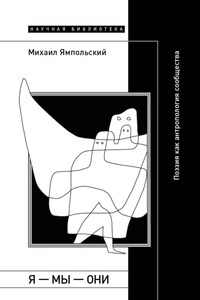Глава 1. Посёлок, где забыли, как светит солнце
Посёлок Ржавец не был нанесён ни на одну карту. Он не был слишком мал, чтобы его заметили. Он был слишком неправильный, чтобы его признать. Ни один спутник, ни один геодезист, ни один путешественник с бумажным атласом в руках так и не смогли зафиксировать его существование. Карты его боялись, как боятся теней, шевелящихся в углах комнаты, когда свет мерцает перед коротким замыканием. Казалось, что, если поставить точку на бумаге, чернила потемнеют, бумага скрутится в трубочку и исчезнет в пепле. Ржавец не существовал официально. Он существовал иначе – как пятно на сознании, как воспоминание, которого никогда не было.
Посёлок стоял между двумя горами, зажатыми в тисках древнего времени. Когда-то эти горы были богами – огромными, живыми, покрытыми мхом, словно шкурами спящих зверей, окутанными легендами на давно забытом языке. Их имена растворились в камне, в дожде, в голосах, звучавших из трещин. Теперь остались только камни с трещинами, растрескавшиеся, как старые кости, из которых торчали ржавые трубы, остатки внутренностей мёртвого зверя, застрявшего между мирами. Трубы никуда не вели или вели во все стороны сразу. Из них капала черная, маслянистая вода с запахом железа и машинного масла. Кап-кап-кап – звук отдавался в черепе, как удар по пустой консервной банке, звеня в ушах ещё долго после того, как тишина снова сгущалась вокруг.
Здесь не было метро, не было театров с красными коврами и аплодисментами. Был только дом культуры, построенный в 1963 году, когда верили, что культура может спасти. С 1987 года культуры там не осталось. За запылённой сценой, где когда-то пионеры пели и танцевали, стоял старый рояль с отломанными клавишами: половина исчезла, половина растворилась.
Если в полночь постучать по крышке три раза – не два, не четыре, а три – он начинал играть мелодию «Время вперед» в миноре, медленно, тягуче, будто каждый звук выдавливался изнутри. Внутри не было ни механизма, ни струн, ни души. Или, возможно, душа была там – чья-то, давно потерянная, запертая в дереве и лаке, играющая вечно, потому что забыла, как остановиться.
Был и кинотеатр «Рассвет». Название стало насмешкой, рассвет кино в посёлке так и не наступил. Экран заколотили досками, потому что он стал слишком ярким. Говорят, однажды, в 1993 году, во время просмотра фильма «Свет в конце тоннеля», свет на экране стал настоящим – холодным и жадным. Трое зрителей подошли к экрану и исчезли. Остались только очки, носки и один голос, повторявший из пустого зала: «Я вижу маму… я вижу маму…».
С тех пор «Рассвет» закрыли. Доски со временем потемнели, впитав всё, что не успели увидеть глаза. А ночью, если приложить ухо к дереву, можно услышать чей-то смех или плач.
На центральной площади стоял памятник Ленину, постепенно проваливавшийся в землю. Его ботинки давно скрылись под асфальтом, пальто наполовину погрузилось, портфель исчез под землёй. Он смотрел вдаль на ржавый забор и пустую детскую площадку, где качели двигались сами, даже без ветра. Местные считали, что земля не хочет его держать, другие думали, что он проверяет, что скрыто под асфальтом. Третьи верили, что однажды он встанет, обросший корнями и мхом, с глазами, проросшими травой, и скажет одно слово. Никто не знал какое, но все боялись, что это будет «хватит».
В посёлке жили взрослые, забывшие, как быть детьми, и дети, вынужденные быть взрослыми. Люди ходили на работу, где ничего не делали, сидели за столами с пустыми чашками и смотрели в стены, будто те должны были заговорить. Пили чай с вареньем, которое больше не пахло ягодами, а пахло пылью, старыми батарейками и воспоминаниями. Смотрели телевизор, в котором шел один и тот же фильм про войну, хотя война давно закончилась.