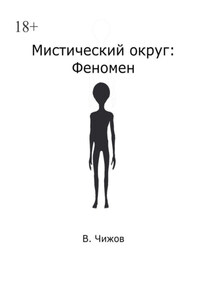Его звали Паши. Не Паша, с твёрдым, обкатанным, как галька, окончанием, а именно Паши – с мягким, неслышным «и» на конце, уходящим в шепот. Это была не ошибка в метрике, а осознанный выбор матери, которая, едва взяв его на руки, прошептала: «Он не громкий, он тихий. Он мой Паши». Это «и» стало его вечным спутником – тихим, почти невидимым знаком, меткой иной, более мягкой сущности, которую мир, впрочем, замечал редко.
Технариум, как он сам в шутку называл свое учебное заведение, на деле был обычным политехническим колледжем, выцветшим, как джинсы после множества стирок. Паши учился здесь уже третий год по специальности «ремонт и обслуживание электронной техники». Знания копились в его пальцах – быстрых, чутких, с обкусанными ногтями, – которые чувствовали неисправность лучше, чем ум. Он уже мог с закрытыми глазами собрать и разобрать паяльник, отличить конденсатор от резистора по одному весу на ладони и по едва уловимому запаху горелой платы понять, что именно пошло не так. Колледж был его панцирем, миром проводов, микросхем и строгой, понятной логики, где у каждой поломки была причина, а у каждой причины – решение.
Но за стенами колледжа логика давала сбой. Там, в съемной однокомнатной квартирке, пахло не паяльной кислотой, а пылью и тишиной. Именно тишиной – густой, тягучей, звенящей. Ей было всего полгода, а казалось, что целую вечность. Раньше её разрывал на части детский смех, потом – испуганный плач, а теперь не разрывал ничего.
Его сына… их сына… забрали. Не воры и не бандиты, а люди в белых халатах, с непроницаемыми лицами и стопкой бумаг. Маленькое сердечко, оказавшееся таким же хрупким, как стеклянный диод, перестало биться во сне, без причины и объяснений. Это горе не поддавалось починке. К нему нельзя было подобрать деталь или найти обрыв цепи. Оно было тотальной, абсолютной поломкой мироздания.
Анна не вынесла звона этой тишины. Она смотрела на Паши и не видела мужа, отца своего ребенка – она видела живую тень, молчаливого напоминания о том, что случилось. Её уход был тихим, как и всё, что их теперь окружало. Она не хлопнула дверью, а прикрыла её за собой, словно боясь разбудить кого-то. Оставив его одного в комнате, где каждый уголок, каждый лучик пыли на полу кричал о пустоте.
Так и жил Паши. Между колледжем, где его руки могли чинить чужие сломанные вещи, и квартирой, которую он разучился чинить для себя. Он существовал в этом ритме: лекция – лабораторная – паяльная станция – пустой холодильник – звонкая тишина. Проблемы в колледже казались ему смешными и мелкими: зазнавшийся одногруппник, строгий мастер, несданный вовремя чертеж. Они были из другого мира, мира, где поломки всё-таки имели решение.
А его собственная жизнь была устройством, схема которого навсегда перегорела, оставив после себя лишь пепельное молчание и комнату, в которой раньше жил младенец. Комнату, которую он боялся открывать.
…Комнату, которую он боялся открывать. Комнату, что стала склепом для его веры в людей, в любовь, в дружбу. Он добровольно заключил себя в одиночество, потому что это была единственная крепость, из которой его уже не могли предать.
Его дни сплелись в однообразную, серую пряжу. Подъем затемно, когда город только заводил мотор своего дня глухим гулом магистралей. Дорога в колледж – не видя окружающего, уткнувшись в тротуарную плитку, словно читая по трещинам на ней свой собственный маршрут. Парты, пахнущие старой древесиной и чужим потом. Лекции проплывали мимо, как подводные течения – он чувствовал их давление, но не видел смысла. Его руки на практиках работали сами, выдавая идеальные пайки и аккуратные соединения, пока разум витал где-то далеко, в прошлом, которого больше не существовало.