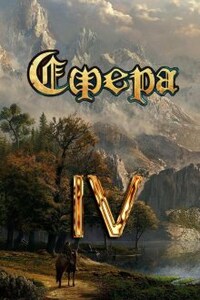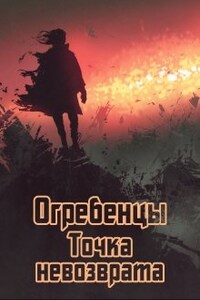Сколько муки и разлада
Позади и впереди!
Ничему душа не рада,
Бесполезным сгустком хлада
Сущая в моей груди!
И тоска – повсюду та же!
До конца – самоотчет!
Корабли без экипажей
И слепца в дорожной саже –
Ничего их не спасет.
Все в тревоге и в тревоге,
А душа вершит вдали
Труд бессмысленный, убогий –
Умер путник на дороге
И пропали корабли.
Фернандо Пессоа.

Он ждал.
Кто-то мог бы сказать, что ожидание
было очень долгим, но здесь все зависит от точки зрения. Пятьсот
лет – невыразимо огромный срок для того, кто умрет через пятьдесят.
Для бессмертного же – это просто возможность передохнуть и
задуматься о дальнейших планах.
Перед ним была дверь. Казалось бы, с
его мощью любая дверь, будь она сделана хоть из алмаза, должна быть
сущим пустяком. Но эту дверь он не мог открыть самостоятельно. Он
знал. Он пытался. Дверь можно было отпереть только с той стороны.
Впрочем, он не отчаивался.
Он знал, что рано или поздно к нему
взовут. Такая сила не может вечно пропадать в безвестности. Одним
фактом своего существования она меняет мир, прогибает его под себя,
как свинцовый шар – натянутую ткань. Все всегда жаждут заполучить
эту силу себе.
Именно так он и появился на свет –
из жажды власти людей, готовых на все, чтобы эту жажду утолить. Из
боли и смерти тех, кто ушел в небытие и призвал его оттуда.
И теперь его заключение было лишь
краткой остановкой на пути к новым вершинам. Пускай, дверь крепка.
Пускай, за ней есть еще целая анфилада дверей. Он знал, что там, за
всеми этими дверями кто-то ищет путь в его темницу. И не просто
ищет – уже нашел. Там, на другом конце анфилады, в замочной
скважине самой первой двери уже поворачивается ключ.
Щелк!
Ночь выдалась прохладной, и ступать
босыми ногами по земляному полу амбара было зябко. Темные стены
перед глазами плясали, словно во время землетрясения, а в голове
звучала разудалая мелодия, наигранная на свирели, топот ног,
разгоряченное уханье.
На самом деле, на флейте никто давно
уже не играл, а вся деревня погрузилась в пьяный, беспокойный сон.
Мне бы тоже не мешало выспаться: прошлую-то ночь я провел на ногах,
выслеживая гигантского илового жупела. Вот только сейчас очень
хотелось пить: не привык я еще к местной браге. Если бы не
подкрученное сопротивление ядам, наверное, слег бы от алкогольного
отравления. Нелепая смерть для охотника за нежитью.
Прошедший вечер и ночь запечатлелись
в моей голове ворохом ярких картинок.
Вот староста богатого
прибрежного села, которому я привез уродливую рогатую голову
жупела, обнимает меня, как родного сына, и требует немедленно
расстелить прямо на берегу скатерку и выкатить из погреба бочку
грушницы. Его радость понятна: эта тварь сожрала уже трех рыбаков
вместе с лодками, и из-за нее вся деревня сидела на берегу в пору,
когда самый лов.
Вот я подношу к губам большую
щербатую глиняную кружку, чувствую исходящий от ее содержимого
запах подгнивших груш и сивухи и отчетливо говорю себе, что
надерусь сегодня в кашу, и гори оно все синим пламенем.
Вот, уже изрядно захмелевший, я
отплясываю, делая неуклюжие коленца, под простенькую мелодию, в
которой мне отчего-то все время слышится «Ведьмаку заплатите
чеканной монетой». Староста при этом отчаянно прихлопывает, едва не
валясь со скамьи на пол
Вот пышная старостина дочка,
раскрасневшаяся от выпитого и от танцев, говорит, что мама ей
советовала держаться от егерей подальше, а то они, дескать,
все грубияны и так и норовят сорвать нежный цветок девичьей
невинности. Я же, в свою очередь, заплетающимся языком уверяю ее в
том, что долг егеря – защищать простой народ, и в моих руках ее
нежный цветок будет в полной безопасности.