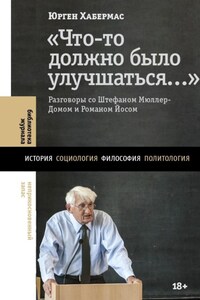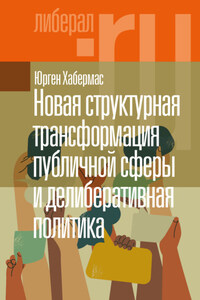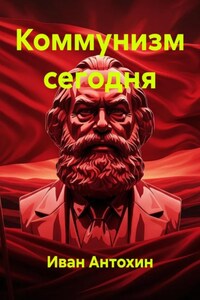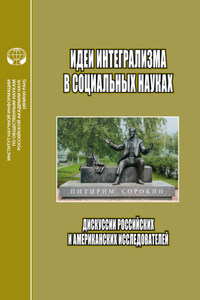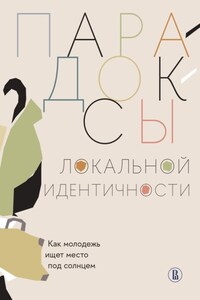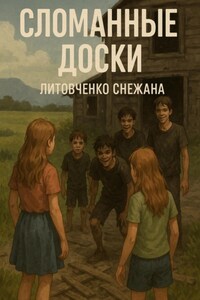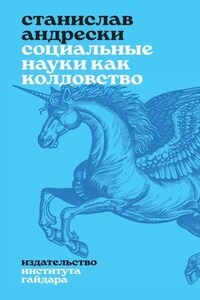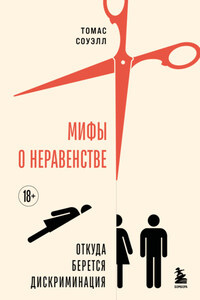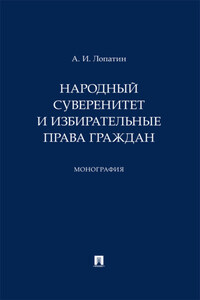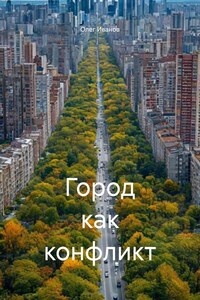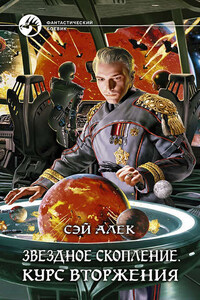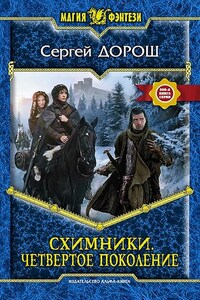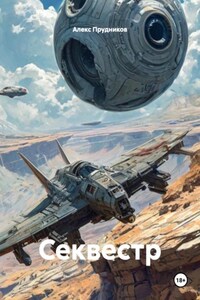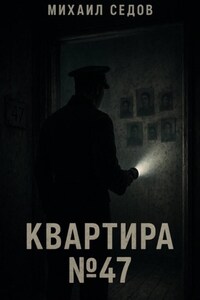УДК 316.257
ББК 87.3(4Гем)6 754
Х12
Редактор серии А. Куманьков Ответственный редактор – И. Мавринский (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики») Перевод с немецкого Д. Колчигина
Юрген Хабермас
«Что-то должно было улучшаться…»: разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом / Юрген Хабермас. – М.: Новое литературное обозрение, 2025. – (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»).
В этой книге, построенной на интервью, крупнейший современный немецкий философ и социолог Юрген Хабермас рассказывает об истоках своего философского проекта, обстоятельствах, в которых он формировался, и об изменениях, которые претерпел в последующие десятилетия. Оглядываясь на ключевые этапы своего интеллектуального пути, Ю. Хабермас размышляет о судьбе послевоенного поколения и его месте в истории философии, о знаковых встречах с интеллектуальными наставниками, исторических событиях и эволюции своих политических убеждений. Рассказ философа погружает читателя в развернутую сеть интеллектуальных связей, охватывающую значительную часть истории мысли XX века и современности. Лейтмотивом всего повествования становится главная задача философии Ю. Хабермаса – обосновать доверие к разуму и обязанность пользоваться им.
В оформлении обложки использована фотография Ю. Хабермаса. Európai Bizottság / Dudás Szabolcs. 29.05.2014. Flickr / Európa Pont
ISBN 978-5-4448-2889-2
© Suhrkamp Verlag AG Berlin 2024
All rights reserved by and controlled through Suhrkamp Verlag AG Berlin
© Д. Колчигин, перевод с немецкого, 2025
© И. Дик, дизайн обложки, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
1. Начала научной биографии
Господин Хабермас, Вы однажды сказали: человек должен сделать в жизни нечто такое, во что укладывались бы его основные интенции. А в чем Ваши основные интенции и в какой мере они повлияли на развитие Ваших теорий, на Ваше профессиональное становление? Говоря конкретнее: что в 1949 году подвигло Вас записаться в Геттингене на изучение философии?
В 1949 году мое поколение сумело взглянуть на окончание Второй мировой войны как на поворотное историческое событие. К началу обучения у нас было уже четыре года времени на то, чтобы осознать всю глубину национал-социалистического водораздела и уяснить для себя, что же скрывалось под всей повседневной нормальностью, при которой мы когда-то росли и жили. Нам это было легче, чем большинству старших. Здесь нет личной заслуги, просто в юном возрасте мы были достаточно восприимчивы и могли ощутить, как из-под кажущейся нормальности тянет какой-то бездонной жутью. Нам не приходилось еще нести ответственность за свои поступки и проступки – а иначе бы сама память о виновности, о соучастии могла бы воспрепятствовать чистому осознанию. Гельмут Коль метко называл это «благодатью позднего рождения». Даже те, кто был лишь немногим старше, вынуждены были прорабатывать уже совсем другой опыт. Именно поэтому, кстати, в «споре историков» я всегда обращал особое внимание на год рождения каждого из участвующих. Национальная среда сделалась насквозь сомнительной, и в ее пределах не возникало никаких психологических препятствий на пути у молодых с их потребностью в самоопределении и просвещении, с их волей к познанию. Было какое-то интуитивное прозрение, и оно отделило критически мыслящую часть моих ровесников от тех затверделых интеллектуальных установок, которые повсеместно окружали нас в тот момент: нацисты вовсе не были инородным телом внутри «в общем-то здоровой» культуры, не были наваждением, которое, по счастью, взяло и развеялось. Им действительно удалось поставить себе на службу то мрачное наследие нашей культуры, которое временами овладевало даже умами великих: так Томас Манн в начале Первой мировой мобилизовался на борьбу с «духом 1789 года». Только этим и можно объяснить заразную силу нацизма, не отпускавшую даже в бомбоубежищах. В первые послевоенные годы (вплоть до денежной реформы) в журналах и книгах все еще стремились как-то отдавать себе отчет о цивилизационном разломе, который, правда, тогда еще так не называли. Поэтому изучение философии для меня в каком-то смысле напрашивалось тогда само собой. Свою роль сыграла, конечно, и семейная история, тоже посодействовавшая моему выбору; помог и отец, охотно оплативший учебу.