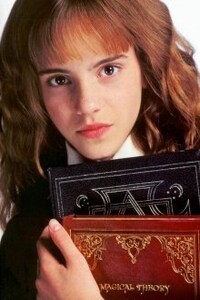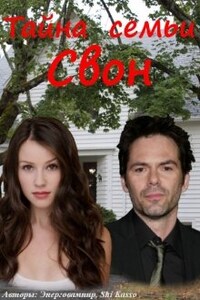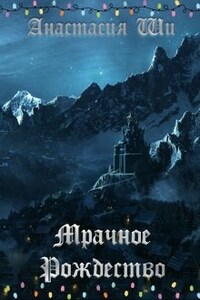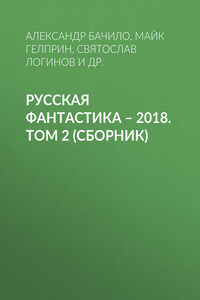"Свои красивые лица
Я надеваю, как щит..."
В ночь перед отъездом в Хогвартс Гермионе Грейнджер приснился
противный, муторный сон. Не кошмар, конечно, но хорошего все-таки
мало. Ей снилось, что она бродила по большому городу, полному
людей, и ей очень, очень нужно было хоть с кем-нибудь поговорить,
но никому не было до нее дела. Она заглядывала в лица прохожим,
садилась за чужие столики в кафе и приставала с расспросами к
продавцам в магазинах, но никто из них не хотел перемолвиться с ней
хоть словом. Было холодно, одиноко и очень тоскливо.
Она проснулась за пять минут до звонка будильника, предсказуемо
выставленного на семь утра, и в эти оставшиеся до подъема минуты
пыталась определить причину отвратительного настроения. Вспомнила
свой сон, подумала, фыркнула презрительно и удивленно: неужели
такое действительно бывает?! Встала, помотала головой, вытряхивая
оттуда остатки сна и плохого настроения, и пошла в ванную.
В реальности Гермиона никогда не испытывала недостатка в
общении.
Если бы кто-нибудь со стороны взялся оценить ее жизнь, он,
наверное, сказал бы, что Гермиона одинока: у нее не было близких
подруг, да что там близких — никаких подруг не было. Никто не звал
ее гулять, не приглашал в гости, не звонил ей по вечерам и не
перебрасывался с нею записками в школе на занятиях. Правда,
желающие посидеть с ней за одной партой исправно находились, но
объяснялось это уж точно не личным обаянием, а ее прекрасной
успеваемостью по всем предметам. Гермиона редко кому давала
списывать — и из вредности, и потому, что была убеждена, что каждый
должен уметь делать какие-то элементарные вещи сам, и решение
математических задач и написание контрольных явно входили в этот
комплект «элементарных вещей». Зато иногда, в охотку, она могла
подсказать ход решения, набросать соседу план сочинения или
проверить готовую работу. Это гораздо лучше, чем ничего, и
одноклассники это ценили.
Но дружить с этой чокнутой занудой — да ни за что на свете! Она
же и минуты не могла прожить без демонстрации своей начитанности и
эрудиции. Стоило кому-либо решить из жалости или от нечего делать
пообщаться с ней не только о контрольной или домашнем задании, как
на этого несчастного обрушивался плотный нефильтрованный поток
разной и, как правило, бесполезной информации, и только поспешное
бегство могло спасти его от головной боли. В общем, Грейнджер была
невыносима, все вокруг давно признали это и оставили попытки с ней
подружиться. В конце концов, с занятиями она и без дружбы помочь
могла.
Гермиону это полностью устраивало.
Приняв душ и приведя себя в порядок, Гермиона встала перед
зеркалом, погримасничала немного и начала нацеплять на себя маски,
морально готовясь к сегодняшнему дню. Неуемный энтузиазм — раз; «я
никогда не нарушаю правила» — два; всезнайка — три; командирша —
четыре; ну и, для надежности, «подружитесь со мной хоть
кто-нибудь». Все, теперь никто не останется равнодушным, но дружить
ни один нормальный человек — ах, простите-простите, волшебник! — не
предложит. И хорошо.
На самом деле, Гермиона могла нормально общаться с людьми. Ну,
то есть, она полагала, что смогла бы, если бы попробовала, по
крайней мере, она вполне была в состоянии не говорить непрерывно,
не командовать другими, не самоутверждаться с помощью демонстрации
знаний и не делать тысячу других бестактных вещей. Только вот не
было у нее ни малейшего желания давать кому-либо понять, что она
может быть адекватной, и уж тем более постоянно с кем-то общаться.
Все дело было в том, что люди в большинстве своем Гермиону крайне
раздражали. Особенно дети. Особенно ровесники. Все они были либо
инфантильны, либо тупы, либо и то и другое. Гермиона понимала, что
с точки зрения взрослого человека она, вероятно, ненамного умнее,
чем любой из ее одноклассников, и особого интереса уж точно не
представляет, но в то же время ей порой казалось, что сама она
родилась уже взрослой и рассудительной, куда взрослее не только
детей-ровесников, но и подростков: у нее, с одной стороны, уже были
мозги, а с другой стороны, все еще не было гормональной бури,
мешающей эти мозги использовать.