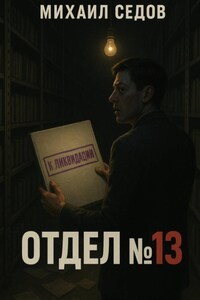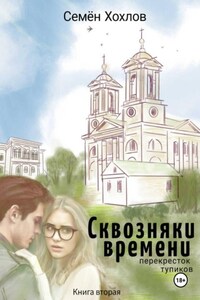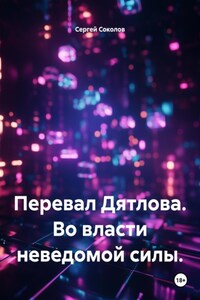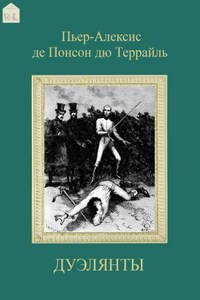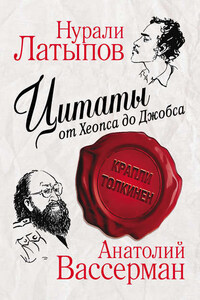Волга ГАЗ-24, казенная, пахнущая сырой шерстью сидений и вчерашним табаком, остановилась у серого трехэтажного здания Управления станции, похожего на уставшего часового. Двигатель, простуженно кашлянув, затих, и в образовавшуюся полость немедленно хлынули звуки сортировочного парка: далекий, протяжный гудок маневрового тепловоза, металлическое эхо удара сцепок, нарастающий рокот проходящего где-то за пакгаузами пассажирского. Звуки жили своей, отдельной от людей жизнью, они были здесь хозяевами. Кириллов сидел еще с полминуты, глядя сквозь запотевшее стекло на низкое, цвета мокрого асфальта, октябрьское небо. Он не торопился. Спешка была плохим инструментом в его ремесле, она смазывала детали и заставляла принимать очевидное за истинное.
Наконец, он открыл тяжелую дверь и шагнул наружу, в промозглую взвесь утра. Воздух был плотным, пропитанным запахами креозота, угольной гари и холодной, влажной стали. Этот запах был для него почти родным, въевшимся в память с детства, как запах материнских рук. Он поднял воротник плаща, поправил съехавшую набок шляпу и двинулся к крыльцу, под ногами хрустел мелкий, промасленный гравий.
Внутри его уже ждали. Начальник станции, грузный мужчина лет пятидесяти с усталым, одутловатым лицом и редкими, прилипшими ко лбу седыми волосами, представился как Петр Игнатьевич Воробьев. Он нервно теребил в руках пухлую папку с тесемками, словно она была спасательным кругом. Рядом с ним, на шаг позади, стоял молодой человек в форме дежурного по станции, бледный, с бегающими глазами. Его китель сидел на нем мешковато, а тонкие пальцы беспрестанно комкали форменную фуражку.
– Майор Кириллов, транспортная прокуратура, – представился Аркадий, не протягивая руки. Он окинул обоих быстрым, оценивающим взглядом, фиксируя напряжение в позе начальника и откровенный страх в глазах дежурного. – Докладывайте.
Кабинет Воробьева был таким же, как сотни других кабинетов в системе МПС: тяжелый дубовый стол под зеленым сукном, массивные стулья, графин с водой, два телефона – один обычный, другой, цвета слоновой кости, – правительственный. На стене – обязательный портрет генсека и огромная, пожелтевшая от времени схема вверенного хозяйства. Пахло пылью, старой бумагой и валокордином.
– Пропажа, Аркадий Павлович, – начал Воробьев, избегая смотреть Кириллову в глаза. Его голос был глухим, будто он говорил из-под толщи воды. – Состава грузового. Номер четыреста два.
Он положил папку на стол, но не развязал тесемки. Кириллов молча обошел стол, сел в кресло начальника, заставив того остаться стоять, и жестом указал на папку. Воробьев, помедлив, развязал узел.
– Пропажа – неверный термин, Петр Игнатьевич, – спокойно произнес Кириллов, вынимая из папки верхний лист. – Состав – это не иголка. Он не может просто пропасть. Он может быть не там, где должен. Или там, где не должен. Давайте начнем с терминологической точности. Что значит «пропал»?
– Он… не прибыл в пункт назначения, – вставил бледный дежурный. Воробьев метнул на него уничтожающий взгляд. – То есть, он прошел нашу станцию. По всем документам. А на следующей узловой, в Орехово, его не дождались.
– Прошел нашу станцию, – повторил Кириллов, не отрывая взгляда от бумаг. – Когда?
– В ноль три сорок семь, – отрапортовал Воробьев, заглядывая в свои записи. – Согласно графику и отметкам в журнале движения. Диспетчер смены, Шубин Алексей Иванович, – он кивнул на своего подчиненного, – лично вел его по парку.
Кириллов поднял глаза на Шубина. Тот вздрогнул, словно его ударили.
– Лично вели, товарищ Шубин? – голос майора был ровным, лишенным всякого нажима.
– Так точно, товарищ майор. Состав четыреста два. Принят с перегона Перово-Москва-Пассажирская-Казанская. Проведен по третьему главному пути, далее через стрелочные переводы сто двенадцать, сто двадцать четыре на двадцать седьмой путь сортировочного парка «Г» для смены локомотивной бригады и технического осмотра. В ноль три сорок семь, после прицепки нового электровоза ВЛ10, отправлен на перегон Москва-Люберцы. Все операции зафиксированы.