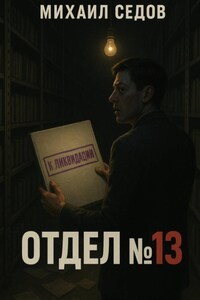Эхо в заброшенном туннеле, которое не должно было прозвучать
Сырость вползала под воротник ватника, липкая и всепроникающая, как страх. Свешников поежился, провел ладонью по мокрой бетонной тюбинговой обшивке и посмотрел на луч своего фонаря, тонувший в бархатной, почти осязаемой черноте. Воздух пах озоном, плесенью и креозотом – вечный парфюм московского подземелья. Где-то далеко, за пределами их маленького островка света, глухо прогрохотал поезд, и вибрация прошла по полу, по стенам, отдалась в самых костях. Звук этот был привычным, родным, как биение сердца спящего гиганта, в чреве которого они сейчас находились.
– Ну что, Вить, дохлятина? – голос Кольки прозвучал неестественно громко, расколов плотную тишину. Он стоял чуть впереди, направив свой «шахтерский» фонарь на что-то темное, распластанное у кабельного коллектора.
Виктор Свешников сделал еще шаг, хрустнув ботинком по рассыпанному гравию. Сердце заколотилось чаще, но не от волнения первооткрывателя, а от дурного, липкого предчувствия, которое родилось в животе холодной змеей. Он был старше Кольки, осторожнее. Он знал, что подземелье не любит суеты и громких слов. Оно любит тишину и уважение. А еще оно умеет хранить тайны. Иногда – слишком хорошо.
– Не каркай, – буркнул Виктор, подходя ближе. – Может, просто тряпье какое-то. Рабочие забыли.
Но это было не тряпье. Луч его собственного фонаря, более мощного, выхватил из темноты детали, и Виктор замер, чувствуя, как немеют пальцы, сжимающие ребристый корпус.
Это был человек. Или то, что им когда-то было. Он лежал на боку, скрючившись, словно пытаясь защититься от удара, который пришел слишком быстро. На нем была какая-то темная, грубая роба, больше похожая на мешковину, без единого опознавательного знака. Но не одежда приковала взгляд Виктора. Лицо. Оно было повернуто к ним, и в мертвенном свете фонарей казалось вылепленным из серого воска. Широкие, неестественно выпирающие скулы, глубоко посаженные глаза под тяжелыми надбровными дугами. Рот был полуоткрыт, обнажая крупные, желтоватые зубы, которые выглядели слишком… массивными. Словно принадлежали не человеку, а какому-то хищнику.
– Мать честная… – выдохнул Колька, отступая на шаг. Его показная бравада испарилась без следа. – Это что еще за… кроманьонец?
Виктор промолчал. Он обошел тело, стараясь не наступать на темные, впитавшиеся в бетонную пыль пятна вокруг. Одна рука мертвеца была вытянута, пальцы скрючены. И сами пальцы… они были длинными, с утолщенными суставами, а ногти – толстыми, больше похожими на когти. Он видел много рабочих рук, мозолистых, загрубевших, но эти были другими. Они были созданы для чего-то иного. Для рытья, для сокрушения.
– Смотри, – Колька ткнул дрожащим лучом в сторону. – Ни кровищи особой, ничего. Просто лежит, как… кукла.
Он был прав. Несмотря на явную неестественность позы, вокруг не было луж крови, которые должны были бы сопровождать насильственную смерть. Только эти бурые, старые пятна. Виктор присел на корточки, борясь с подступающей тошнотой. Запах. К привычной смеси подземелья добавился новый оттенок – сладковатый, тяжелый, запах старого мяса и чего-то химического, неуловимо напоминающего формалин.
– Надо ментам звонить, – сказал Виктор, и его голос прозвучал глухо и чуждо.
– Ты сдурел? – взвился Колька. – Нас же самих тут повяжут! За незаконное проникновение, то-сё… Скажут, мы его и пришили. Давай валим отсюда, Вить. Просто уйдем, будто и не было ничего.
Виктор медленно поднялся. Он посмотрел на Кольку, на его испуганное, бледное лицо, потом снова на тело. Уйти. Сделать вид, что ничего не видел. Забыть про эту восковую маску с зубами хищника, про эти страшные, созданные для сокрушения руки. Но что-то внутри него, какая-то глубинная, въевшаяся с пионерскими галстуками правильность, воспротивилась. Это был человек. Каким бы странным он ни был, он был человеком. И его оставили здесь, в этой вечной темноте, как мусор.