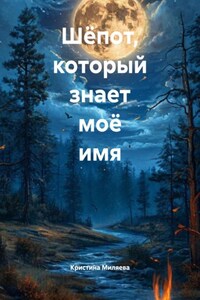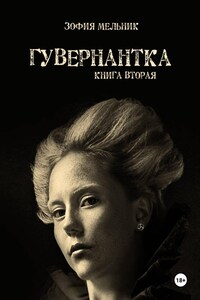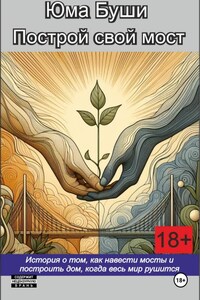Глава 1. Бриллиантовый вечер и пролог кошмара
Тот вечер начался с пропажи. Не катастрофической, нет, – но досадной и колющей, как булавка в самом неудобном месте корсета. Мой александрит, тот самый, в старинной золотой оправе, что покойный Эдуард Карлович подарил мне на годовщину нашей, с позволения сказать, свадьбы, – исчез. Я перерыла все шкатулки, все ящички туалетного столика, заглянула под кровать и даже под ковёр – тщетно. Камень, способный менять цвет от изумрудно-зелёного при дневном свете до кроваво-красного при свечах, будто растворился в сыром петербургском воздухе.
Я помню, как сидела перед трюмо, сжимая в пальцах не камень, а пустоту, и в горле стоял комок обидной беспомощности. Это сейчас я понимаю, что это был знак, первая ниточка, потянув за которую, я распутала весь этот клубок, пропитанный кровью и ложью. А тогда я просто думала, что невезение – это конец света. Как же я ошибалась. Настоящий конец света пахнет не духами и пудрой, а снегом, кровью и ледяным страхом.
Но вечер нельзя было отменить. Приём в Зимнем по случаю визита какого-то германского принца был событием, ради которого стоило пережить и пропажу, и лёгкий траур, который я, если честно, уже почти выдержала. Полгода без Эдуарда Карловича – срок приличный. Мне всего двадцать два, и душа, вопреки всем приличиям, рвалась на бал, к огням, к музыке, к восхищённым взглядам мужчин.
Меня одевала Дуняша, моя верная горничная, молчаливая и проворная, как тень. Кремовое бархатное платье, тяжёлое, как панцирь, с кружевами брюссельскими, которые стоили, наверное, целой деревни с душами. Бриллианты в ушах и на шее – фамильные, массивные, холодные. Я смотрела на своё отражение – изящная блондинка с большими, слишком наивными, как мне часто говорили, голубыми глазами, с губами, сложенными в обиженную бантику. Баронесса фон Траун. Богатая вдова. Прелестная, но пустоголовая кукла. Таким меня видел свет. Таким я, пожалуй, и была до той ночи.
– Вам не хватает только броши, сударыня, – тихо заметила Дуняша, закалывая последнюю шпильку в мою причёску.
– Брошь исчезла, – буркнула я, с досадой отодвигая от туалетного столика шкатулку, где когда-то лежал александрит. – Словно сквозь землю провалилась.
– Обязательно найдётся, – без особой верности в голосе ответила горничная. Её тёмные глаза избегали моего взгляда в зеркале. Теперь-то я понимаю, о чём она думала. Тогда же я решила, что она просто разделяет моё огорчение.
Экипаж, запряжённый парой гнедых, мягко покачивался на неровностях мостовой. Я глядела в запотевшее окошко на мелькающие огни фонарей, на тёмные воды Невы, на силуэты дворцов, выстроившихся в немой парад вдоль набережной. В груди порхали бабочки лёгкого, приятного волнения. Я была свободна. Свобода эта, впрочем, заключалась в праве выбирать, какой веер взять на бал и с кем из кавалеров разделить танец. О большей свободе я тогда не помышляла.
Зимний дворец встретил меня ослепительным светом тысяч свечей, отражённых в бесчисленных зеркалах, гулом голосов, смехом, торжественными аккордами оркестра. Воздух был густ и сладок от ароматов дорогих духов, цветов и нагретого воска. Я скользила по паркету, кивая знакомым, ловя на себе взгляды – оценивающие, любопытные, мужские. Я чувствовала себя своей в этом блеске, этой позолоте, этом шелесте шёлков. Это был мой мир. Я так думала.
Именно тогда я заметила его. Он стоял у колонны, прислонившись к белоснежному мрамору, и в его позе была та лёгкая небрежность, которую позволяют себе только люди, абсолютно уверенные в своём праве быть здесь. Поручик Лейб-гвардии Измайловского полка. Григорьев. Я не знала его имени, но его знала вся женская половина Петербурга. Высокий, статный, с чёрными как смоль волосами и насмешливыми, чуть раскосыми глазами. Он был красив той опасной, почти звериной красотой, которая заставляет сердца дам биться чаще, а матерей – хвататься за носовые платки.