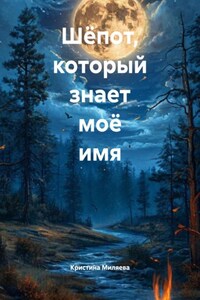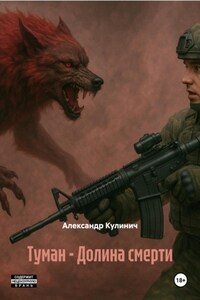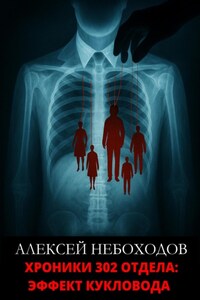Глава 1. Притишье и призраки
Дождь в Притишье – не очищение. Он липкий, как старая пленка, и пахнет мокрой трухой да затхлостью подвалов. Он не смывал грязь, он ее растворял, превращая единственную дорогу в склизкий черный кисель. Я стояла у покосившегося окна своего дома – вернее, дома мамы, – и смотрела, как капли ползут по грязному стеклу, искажая мир за ним до неузнаваемости. Так, наверное, видела его она в последние годы. Безнадежно искаженным.
Дом был таким же, каким я его оставила десять лет назад, только хуже. Гниль, которую тогда только нюхало дерево, теперь въелась в самые его кости. Полы скрипели не просто так, а с надрывом, будто подгнившие зубы. Воздух стоял тяжелый, спертый – смесь пыли, сырости и чего-то еще… лекарственного? Нет, нафталина? Или это просто память, призрак запаха из «Лунного Ключа», преследующий меня здесь? Я втянула носом. Скорее всего, воображение. Или не только.
Безысходность. Это было главное чувство Притишья. Оно висело в воздухе плотнее смога, пропитывало стены заброшенных изб, глядело пустыми глазницами выбитых окон. Большинство домов по нашей улочке давно умерли. Те, что еще подавали признаки жизни, дышали на ладан: занавески грязно-серые, дрова сырые, дым из труб – жидкий, больной. Обитатели – призраки при жизни: старики, чьи глаза потухли раньше времени, алкаши, слоняющиеся меж развалин в поисках забытой бутылки, да маргиналы, которых мир выплюнул сюда, как ненужный сор. Жизнь теплилась только в крошечном почтовом отделении, где вечно дремала тетка Прасковья, да в лавчонке дяди Миши, где пахло дешевым табаком, тухлой колбасой и отчаянием. Выбор – как между чумой и холерой.
Я прижала ладонь к холодному стеклу. Пальцы дрожали. Не от холода – от внутренней трясучки, которая стала моим постоянным спутником с тех пор, как вернулась. Город выплюнул меня обратно, как инородное тело. Нервный сры́в – такой аккуратный медицинский термин для того ада, что творился у меня в голове. Потеря работы, разбитые вдребезги отношения, ощущение, что я не вписываюсь никуда. И единственное место, куда можно было бежать, – этот дом, пропитанный безумием и смертью матери. Иронично. Психиатр в городе выписала таблетки – маленькие, желтые, безликие. Они притупляли остроту, но не лечили. Как пластырь на гниющей ране.
За окном, на холме, затянутом дождевой дымкой, маячили очертания Лечебницы. «Лунный Ключ». Когда-то белоснежный корабль модерна, плывущий в зелени парка, с витражами, ловившими солнце, и террасами, где пили целебную воду. Теперь – черный остов, уродливый и величественный в своем падении. Как гнилой зуб, торчащий из челюсти холма. Облупившаяся лепнина, словно струпья. Выбитые окна – слепые глаза. Проломы в крыше. И везде – эта дикая, агрессивная зелень, оплетающая руины, словно природа спеши́т скрыть позор. Я знала, что внутри еще страшнее: горы битого кирпича, птичий помет, слои пыли временем, скрипучие провалившиеся лестницы в никуда. Царство разрухи. И источник… сердце всего этого. Теперь – зловонная лужица под грудой мусора. Но тогда, в детстве…
Я отдернула руку от стекла, будто обожглась. Мама. Вера Сомова. Ее тень витала в этих стенах плотнее любого призрака. Она была здесь повсюду: в пыльных углах, в скрипе половиц, в хаосе коробок и папок, что я безуспешно пыталась разобрать целый год. Ее «архив». Фотографии «Лунного Ключа» в зените славы – улыбающиеся пациенты, белые халаты, сверкающие ванны. Вырезки из газет о внезапном, скандальном закрытии пятнадцать лет назад – «нерентабельность», шептали о чем-то темном, о смерти… Ее собственные записи, все более невнятные, испещренные странными символами, упоминаниями «лунных фаз», «теней, что шепчут у источника», обвинениями в адрес Кротова, Владимира Кротова, тогда еще просто жадного хама, а ныне… ныне новой угрозы.