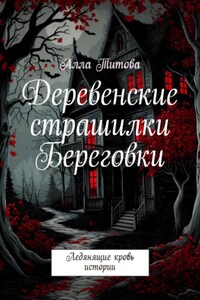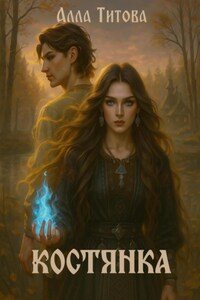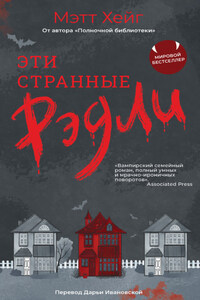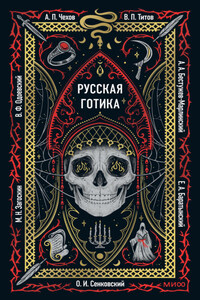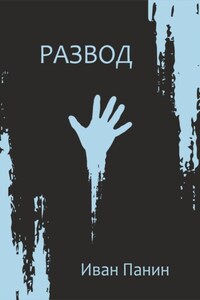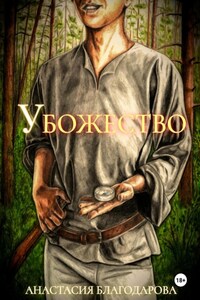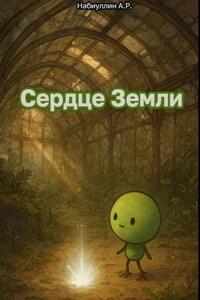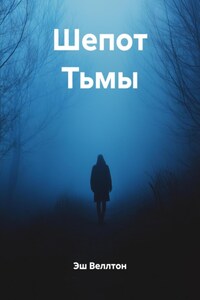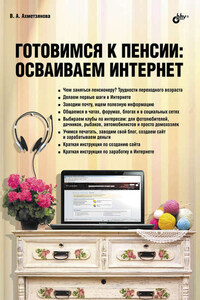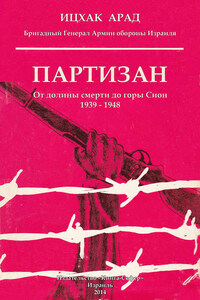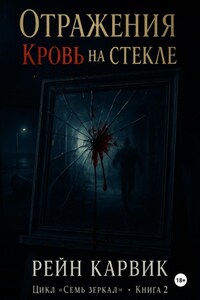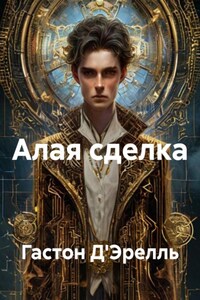У реки Ниточки, между Дедовым лесом и болотами, что шепчутся на языке забытых богов, приютилась деревня Береговка. Место это славно не пашнями тучными – земля здесь камениста, – а иной силой. Силой древней, уходящей корнями в ту пору, когда мир был моложе, а граница между явью и навью зыбкой, как туман над осенним болотом.
Здесь не к добру свистеть в избе, чтобы не выстудить душу, и не след ходить в глубь чащобы после заката, когда тени оживают и начинают своё шептание. Здесь знают, что у каждой травинки, у каждого камня есть свой дух, и с ними надо уживаться. Иной раз – задабривать.
Береговка живёт по своим законам, писанным не на бересте, а на самой плоти земли. Законы эти суровы и просты: выживает тот, кто чтит договор. Договор с лесом, с болотом, с теми, кто старше людей и чьи имена давно стёрлись из памяти, но чьё присутствие ощущается в каждом шелесте листвы, в каждом всплеске в чёрной воде. И цена этому договору порой высока. Очень высока.
Сколько зим прошло с тех пор, как первые поселенцы пришли на эти берега, не скажет никто. Их кости давно стали частью курганов на окраине, а их истории растворились в легендах, что передаются из уст в уста у огня, пока за окном воет вьюга. Легенды эти – не сказки для малых детей. Это предостережения! Напоминание о том, что тьма не просто приходит извне. Порой она рождается внутри, в самом сердце человеческом, в его страхах, жадности и отчаянии.
Прислушайтесь к тишине между строк этих сказаний. Услышьте скрип старого дерева у околицы, вой ветра в печной трубе, далёкий зов из трясины. Это голоса само́й Береговки. Они расскажут вам свои истории. Страшные, мрачные, но правдивые.
Ступайте же. Приоткройте эту дверь. Но помните: войти сюда просто. А вот выйти…
В нашей родной деревне Береговке, что затерялась меж холмов и бескрайних полей, у каждого дома есть свой хозяин. Не тот, что паспортом прописан, а тот, что в тени за печкой живёт, в старом лапте, за ворохом сушёных трав на чердаке или в тёплой щели меж венцами – Домовой. И с ним у нас, береговских, особый, немой уговор, скреплённый поколениями: мы его уважаем, кормим молочком да хлебушком, по праздникам – ломтиком пирога, а он за порядком смотрит, от лиха оберегает, нашёптывает спящему хозяину, где потерялась пропавшая скотина, и тяжко вздыхает в ночи, предвещая беду.
Но есть на краю деревни, у самого чёрного омута на реке Ниточке, изба старая, под замшелой, просевшей крышей. Стоит она кривая, пустая и проклятая, с тех пор как увезли из неё в городскую больницу последних жителей – семью Гордеевых. Они бросили все пожитки: одежду в сундуках, даже мудрёную утварь. Бросили так, словно бежали от пожара. И теперь только ветер гуляет в щелях той избы, заунывно насвистывая свою вечную песню, да совы под коньком гнездятся, да крапива да лопух непролазной стеной вросли в порог.
История эта не вчерашняя, но её шёпотом передают из уст в уста старухи у подворотен, чтобы не повадилась молодёжь озорничать да правила забывать. Чтобы помнили: есть границы, через которые переступать нельзя.
А начиналось всё хорошо. Жил в той избе дед Матвей, мужик суровый, молчаливый, но справедливый, с руками, искорёженными многолетней работой, но добрым сердцем. И домовой, ему подстать – крепкий, хозяйственный, не проказливый шалун, а строгий хранитель очага.
Всё ладилось у Матвея: и скотина плодилась, не зная падежа, и урожай всегда был что надо, даже в самые голодные годы. Каждую ночь Дед аккуратно отламывал горбушку свежего хлеба, наливал в замысловатую, вырезанную им же деревянную миску парного молока и оставлял на чистом выскобленном столе со словами: «Хозяин-батюшка, на здоровье, побереги нас». И никогда не ругался в доме зря, не сквернословил, не устраивал свар. Тишина в его доме была особая – уютная, тёплая, живая, охраняемая.