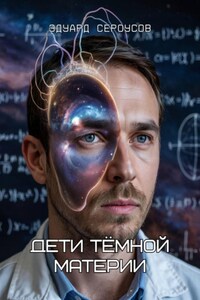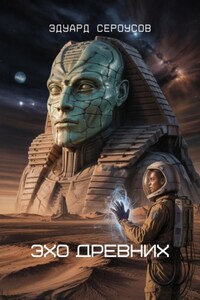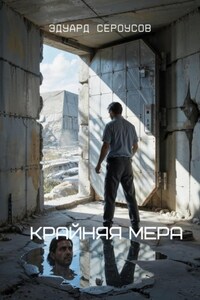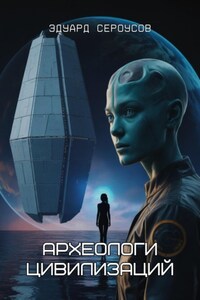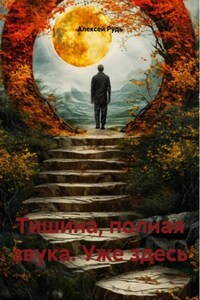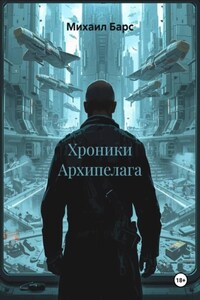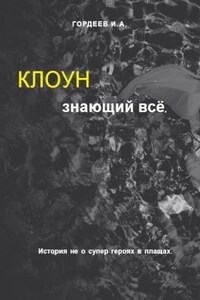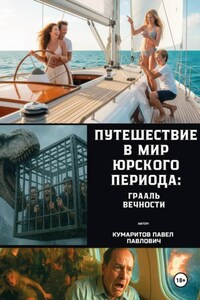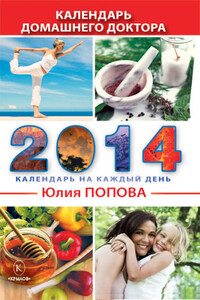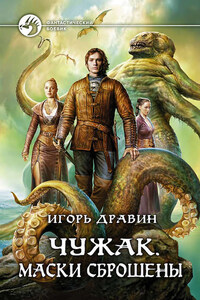Глава 1. Квантовая аномалия
Квантовая механика – это наука о границах возможного. В самом сердце физики частиц лежит противоречие между тем, что мы можем узнать, и тем, что остаётся навеки скрытым от нас. Принципиальная неопределённость. Это не просто ограничение наших приборов или методов – это фундаментальное свойство реальности.
Алексей Нойманн всегда считал это философское клише излишним. Реальность – это то, что регистрируют детекторы. Всё остальное – досужие домыслы.
Когда он в очередной раз проверял калибровку массива сверхпроводящих гравитационных интерферометров, мысли его были далеки от философии. Алексей сосредоточенно прокручивал в голове последовательность операций, мысленно проверяя, не упустил ли какого-нибудь параметра. В подземной лаборатории CERN-2, расположенной на глубине почти двухсот метров под альпийскими лугами, было прохладно. Система охлаждения, поддерживающая работу сверхпроводящих магнитов, превращала огромное помещение в подобие высокотехнологичной пещеры, заполненной тихим гулом вентиляции и едва уловимым потрескиванием электроники.
Металлический корпус криостата, возвышающийся в центре лаборатории, напоминал современную версию древнего обелиска – пятиметровая колонна из полированной стали, опутанная сетью трубок, проводов и оптоволоконных кабелей. Внутри, при температуре, близкой к абсолютному нулю, располагались тончайшие мембраны, способные зафиксировать отклонения меньше размера протона – эхо гравитационных волн, пришедших из глубин космоса.
Эксперимент, над которым работал Алексей, был частью глобальной сети детекторов гравитационных волн. Но в отличие от других проектов, нацеленных на регистрацию волн от слияния нейтронных звёзд или чёрных дыр, его интересовали сигналы совсем иного рода – микроскопические флуктуации, теоретически возникающие при взаимодействии обычной материи с тёмной.
Два года потрачены на разработку модели, ещё полгода – на калибровку оборудования. И вот сегодня – первый полномасштабный запуск. Алексей не ждал немедленных результатов. В лучшем случае, через несколько месяцев сбора данных они смогут выделить статистически значимый сигнал из общего шума. Если, конечно, его гипотеза верна.
– Мембраны стабилизированы. Температура – в пределах нормы. Скаляр квантовой когерентности – девяносто восемь процентов, – доложила Фрида, ассистентка Алексея, молодая женщина с аккуратно собранными в пучок русыми волосами и внимательным взглядом.
Алексей молча кивнул, не отрывая взгляда от своего монитора, где развёртывались последние графики калибровки.
– Система мониторинга фоновых помех готова, – добавил Карстен, второй ассистент, длинный и нескладный норвежец, ответственный за минимизацию посторонних вибраций. – Геосейсмическая активность в пределах допустимых значений.
– Хорошо, – Алексей перевёл взгляд на основной экран, где отображалась схема всей установки. – Запускаем первую серию измерений. Я хочу пятичасовой непрерывный цикл с минутными интервалами для анализа.
– Пять часов без остановки? – Карстен поправил очки в тонкой оправе. – Система охлаждения может не выдержать такой нагрузки.
– Выдержит, – отрезал Алексей. – Я лично перепроектировал контуры теплоотведения. Запускайте.
Фрида и Карстен обменялись быстрыми взглядами – они уже привыкли к бескомпромиссному стилю руководства Алексея. За два года работы в его команде они научились ценить его техническое мастерство и научную интуицию, но так и не сумели пробиться сквозь стену отчуждённости, которой он себя окружил.
Серия коротких команд, отданных через терминалы, – и эксперимент начался. Полупустая лаборатория наполнилась тихим гулом криогенных насосов и едва заметной вибрацией. Никаких визуальных эффектов – только цифры и графики на мониторах, меняющиеся в реальном времени. Для стороннего наблюдателя это выглядело бы скучно и непонятно, но для троих учёных каждое колебание на графиках рассказывало историю квантовых процессов, происходящих на границе человеческого понимания.