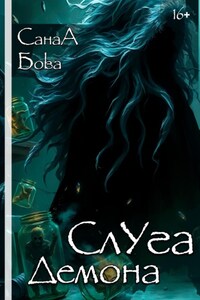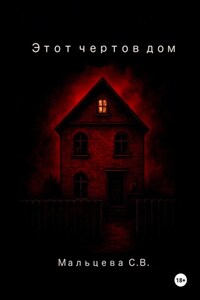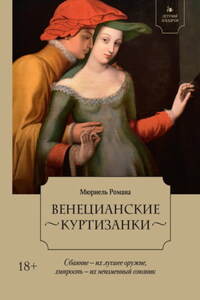Дорога началась не там, где асфальт вцепился в лес серыми зубами и где расписание автобуса, покрытое каплями дождя, обещало всего лишь две посадки в день, а гораздо раньше, в том странном утреннем промежутке, когда будильник уже отзвенел, а тело будто ещё держится за тёплую тень сна, и мир напоминает коридор с множеством дверей, где каждая ведёт к какому‑то «если бы». Михаил проснулся тотчас, как только за окном вздохнула серая заря, и в этом вздохе услышал порыв старой памяти: танцующие пылинки на дачной кухне, скрип половиц, запах подогретого молока, запах вчерашней газеты – все те знаки, из которых складывается детство, если оно хоть раз проходило летом в деревне. Пальцы привычно нащупали ремешок часов, проверили, на месте ли блокнот и ручка, а взгляд зацепился за глухую полоску света у шторы, как за нитку, за которую тянут вышивку, не зная, распустится ли рисунок. Он пил густой, как отвар, чёрный чай, запоминал вкус города на какое‑то время «до свиданья», и в этом простом утреннем действии было что‑то от обряда: выйти из привычного – значит чуть умереть, чтобы дышать иначе.
На автостанции пахло железом, табаком и смирением. Здесь, как в предбаннике для нищих и пророков, никто не спрашивал, зачем ты едешь, железный мир знает, что любой поезд – это ответ сам по себе. Старый автобус на его направление был белёсо‑зелен, с облезшими бортами, у которых вмятины запоминали чьи‑то неловкие повороты из года в год, двигатель издавал хрип, сгодившийся бы и для колыбельной, и для предупреждения, и для молитвы. Михаил коснулся ладонью холодной ручки дверцы, металл отозвался коротким «не забудь», и он вошёл внутрь, как входят в чужую избу, не громко, не делая вид, что ему тут рады. В салоне сидели старухи в платках, без возраста, как корни, – две молодые женщины с узлами на коленях, мальчишка с корзинкой, где с торца показывали солнечные зубы головки зверобоя, и молчаливый водитель, у которого руки были точно выструганы из морёного дуба: костяшки блестели, как колени у старых иконных святых.
Автобус тронулся без церемоний, как трогается память, сперва чуть назад, чтобы набрать разгон, потом в ту полоску, где город кончается и начинается лес. В окно стекал пейзаж, но стекал как бы не по стеклу, а по внутренней стороне глаза – деревья, жухлые поля, недокошенные ленты трав у обочины, ленивые лужи в колеях, всё это переставало быть «чужим» слишком быстро, будто место разглядело в Михаиле знакомый знак и сказало: ладно, иди. Он никогда не был мистиком, слишком тщательно возился с фактами, чтобы сдавать свою жизнь в аренду «кажется», и тем не менее всегда узнавал такие дни – словно воздух впереди густеет, как кисель, и двигаться через него надо не спеша, набирая ртами смысл, чтобы потом не задыхаться.
Старухи в задних рядах сидели ровно, как будто на них водружены невидимые богослужебные книги, и от их платков пахло наваристым супом, терпкой полынью, сундуками, в которых лежат ткани, пахнущие тысячу лет и ещё один день. Они не смотрели на него прямо, их глаза, если и скользили по чужому, то как бы в стороне, в том месте, где у каждого человека ходит дух‑двойник, взглядом они держали его не за запястье, а за тень. Михаил поймал себя на желании стать прозрачнее, чтобы его присутствие не раздражало ткань пространства, как самую тонкую шёлковую нитку. Водитель, не отпуская руля, завёл в зубах сигарету так, будто заклинил между клыками сомнение, взгляд у него был странный, не обвинительный и не хмурый, а обходной, как у человека, который знает, что в этой местности слова давятся друг о друга, как рыба в сети, и потому лучше говорить коротко, когда надо, и молчать, когда нельзя.