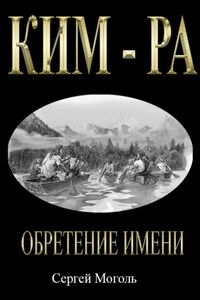Боль пришла первой. Она была похожа на ржавый гвоздь, вбитый в основание черепа – тупая, глубокая, с каждой пульсацией отзывавшаяся горячей волной в висках. За ней пришел холод, липкий и сырой, словно он лежал не на земле, а на дне могилы, заваленной прелой листвой. Он попытался сделать вдох, и в легкие вонзились тысячи ледяных иголок.
Мир был мутным месивом бурых и темно-зеленых пятен. Веки, склеенные чем-то липким и тёплым, отказывались подчиняться. Со стоном, который показался ему чужим, он заставил себя разлепить их. Над ним нависал непроницаемый полог из тяжелых еловых лап, сквозь который едва просачивались серые клочья предрассветного неба. Ни солнца, ни луны. Лишь безвременье.
Он лежал на боку, щекой в подушке из влажного мха, пропахшего землей и тленом. Попытка сесть обернулась вспышкой ослепительной боли и приступом тошноты. Мир качнулся, как палуба ладьи в шторм. Он замер, тяжело дыша, и осторожно провел рукой по затылку. Пальцы наткнулись на что-то твердое и влажное в спутанных волосах. Он поднес руку к глазам. На ладони размазалась тёмная, почти чёрная субстанция. Кровь. Уже запекшаяся.
Кто я?
Вопрос возник не в мыслях. Он был самой пустотой, зияющей на месте того, что должно было быть сознанием. Пустота эта была бездонной и холодной. Где-то там, в её глубинах, должны были быть лица, имена, голоса. Имя матери. Лицо отца. Тепло родного очага или лязг стали на тренировочном дворе. Но там не было ничего. Лишь гулкое, звенящее эхо отсутствия. Словно из его головы вычерпали всё содержимое, оставив одну лишь пустую оболочку.
Холодная змея паники скользнула по позвоночнику, заставляя сердце замереть. Умереть здесь, безымянным, в этом молчаливом лесу. Стать пищей для червей и падальщиков. Но тут же что-то другое, более древнее и жестокое, поднялось из глубин инстинктов. Не разум, не логика – животная воля к жизни. Паника – это слабость. Слабость – это смерть. Выжить. Любой ценой.
Собрав все силы, он перекатился на живот и медленно, опираясь на дрожащие руки, встал на колени. Затем на ноги. Мышцы, затекшие и сведенные судорогой, отозвались новой волной боли. Он стоял, покачиваясь, посреди бескрайнего моря древесных исполинов. Сосны и ели, старые, как сам мир, уходили стволами-колоннами в хмурое небо. Под ногами хрустел валежник и пружинил ковер из мха и опавшей хвои. Тишина была гнетущей, абсолютной. Казалось, сам мир затаил дыхание, наблюдая за ним.
Он заставил себя осмотреть. На нем была грубая льняная рубаха, перехваченная простым кожаным ремнем. Порты из той же ткани, заправленные в видавшие виды кожаные сапоги, потертые и пропитанные влагой. Одежда воина, но не знатного дружинника. Ополченца, простого воя.
Рука сама собой легла на пояс. Пальцы нащупали рукоять. Нож. Небольшой, с широким лезвием, рабочим, без изысков. Но сталь была хорошей, он почувствовал это по весу и балансу. Рядом, в маленьком кожаном мешочке, обнаружились кремень и кресало с сухим трутом внутри. Бесценное сокровище в этом сыром мире.
Больше ничего. Ни меча, ни щита, ни лука. Ни мешка с припасами. Он был один. Голый, безымянный человек посреди безразличного, враждебного леса, вооруженный лишь ножом, огнивом и дикой, первобытной волей к жизни, что горела в его пустых глазах. И это должно было стать его отправной точкой. Не в прошлое, которого не было, а в будущее, которое еще предстояло вырвать у этого леса зубами.