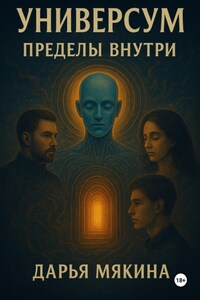Пролог. Зеркало без отражения
1873 год.
Свечи догорали медленно, будто не хотели видеть конца письма. Восковые капли стекали по подсвечнику, похожие на слёзы. Чернила на пергаменте уже остывали, оставляя лёгкий металлический запах. Рука графини дрожала – от холода или от сожаления, различить было невозможно. На краешке листа темнело пятно от слезы, размывшее одно слово: прости.
Она сидела у большого зеркала в позолоченной раме. Когда-то его привезли из Парижа – говорили, стекло отливалось на закате и потому отражает не только лица, но и мысли. Графиня не верила в суеверия. До этого вечера.
В комнате царила вязкая, бархатная тишина. Лишь огонь в камине потрескивал, и где-то в стенах слышался глухой шорох – словно дом медленно дышал. Она перечитала строки – признание, написанное для того, кто больше не откроет это письмо. «Если ты ещё помнишь мой голос, – писала она, – знай: я нарушила клятву не по воле сердца. Дом требует равновесия. То, что я открыла, не должно было ожить.»
Она поставила точку и заметила, что чернила чуть дрожат, будто строчки дышат. Пламя свечей колыхнулось, и тени на стенах потянулись к зеркалу. Оно отражало комнату слишком точно – даже пылинки, зависшие в воздухе, казались в нём живыми.
Мужчина стоял позади, в полумраке. Бледное лицо, взгляд, в котором застыла тоска. Его часы, на цепочке у запястья, показывали полночь, хотя маятник на стене ещё не отбил и одиннадцати.Она подняла взгляд. В отражении – не она.
– Ты пришёл, – прошептала она. – Но поздно.
Отражение не ответило. Только стекло дрогнуло, как вода от брошенного камня. Лёгкий треск – и тонкая трещина побежала от угла к центру, рассекла её отражённое лицо пополам.
Она медленно поднялась, прижимая письмо к груди. Тени за ней будто ожили, повторяя движения с опозданием, как актёры в беззвучной пьесе. Воздух стал густым, пахнул воском, железом и сухими розами.
– Пусть дом запомнит, – сказала она тихо. – Пусть хранит, пока не придёт та, кто сможет завершить.
Она положила письмо на стол, рядом с чёрной розой, сохранившей форму, но утратившей запах. Зеркало тем временем начало тускнеть. Свет свечей будто втягивался внутрь, как в глубокий колодец. Из глубины послышался тихий звук – не шорох, не стон, а будто дыхание, пойманное между двумя мирами.
Шторы дрогнули, хотя окна были заперты. Ветер не мог попасть внутрь, но пламя погасло, словно кто-то прошёл мимо. Перо, упавшее со стола, перекатилось к её ногам, оставив на паркете тонкую линию чернил. Она наклонилась, чтобы поднять его, – и застыла.
В зеркале она всё ещё стояла прямо. Не двинулась, не наклонилась. Её отражение больше не повторяло движений. Оно просто смотрело – пристально, без дыхания, как смотрят мёртвые на живых.
– Отпусти, – выдохнула она. – Прошу…
Но губы отражения не шевельнулись.
Вместо ответа стекло издало протяжный хруст. Звук прошёл сквозь дом, отразился эхом в трубах, под потолком, и где-то наверху хлопнула дверь. Трещина расползлась, коснувшись рамы, прошла по стене, будто кто-то ножом провёл по самой памяти дома.
Чернила на письме расплылись. Слова утонули в темноте, превратившись в нечитабельные волны. Последняя свеча дрогнула и погасла.
Зеркало светилось в темноте мягким, нереальным сиянием. Сквозь него мелькнуло движение – словно чьи-то пальцы прикасались изнутри. На поверхности остался отпечаток руки, тонкий, прозрачный, как след дыхания.
Дом замер.
Потом тихо вздохнул, и шорох прошёл по коридорам, по лестнице, по старым балкам. Казалось, стены слушают.
Из-за двери донёсся звук шагов – лёгкий, медленный, будто кто-то прошёл по коридору босиком. Графиня обернулась, но там никого не было. В зеркало – тоже. Только тьма и трещина, похожая на молнию.