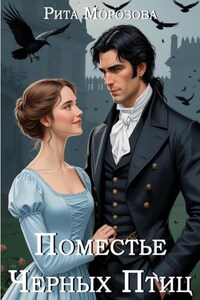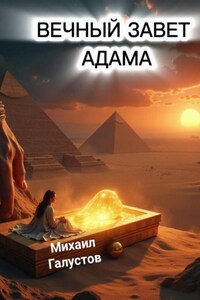Карета, скрипя и подпрыгивая на ухабах проселочной дороги, казалось, вбирала в себя всю тоску и уныние осеннего дня. За окном проплывали бесконечные вереницы оголенных деревьев, их черные ветви простирались к низкому свинцовому небу в немом укорзе. Лорелайн Эверард прижалась лбом к холодному стеклу, пытаясь унять легкую дурноту, вызванную долгой тряской, но куда более – трепетным беспокойством, сжимавшим ее сердце маленьким, холодным комком.
Путешествие из Лондона в графство Йоркшир заняло целую вечность, и с каждым мигом, приближавшим ее к месту нового, вынужденного пристанища, Лорелайн все острее чувствовала себя не гостьей, а товаром, который везут на оценку, далеко не первосортным и уже заведомо обесцененным. Ее пальцы в поношенных лайковых перчатках судорожно сжали небольшой саквояж, где хранились немногие ее сокровища: мамин медальон, несколько книг в потрепанных переплетах и пачка писем – последняя нить, связывавшая ее с прежней, пусть и небогатой, но своей жизнью.
Поместье Гринторн-Мэнор предстало перед ней внезапно, как и полагается старинным усадьбам, скрывающимся за высокими стенами из темного камня и вековыми буками. Карета миновала обветшалые, но все еще внушительные ворота и покатила по длинной, усаженной полузасохшими вязами аллее. Сама усадьба, сложенная из серого камня, потемневшего от времени и непогоды, возвышалась на пригорке – массивная, угрюмая, с бесчисленным количеством высоких узких окон, казалось, с недоверием взиравших на приближающийся экипаж. Ничто в ее облике не сулило теплого приема, и Лорелайн невольно содрогнулась, представив, сколь многие дни, месяцы, а может, и годы предстоит провести ей в стенах, дышавших таким ледяным, неприступным величием.
Она приехала по милости – или, вернее сказать, по обязанности – своей тетушки, миссис Матильды Гронгер, сестры ее покойной матери. После кончины отца, обедневшего баронета, чьи скромные средства ушли на оплату долгов и скромных же похорон, у Лорелайн не осталось ни родных, способных принять ее с распростертыми объятиями, ни средств на содержание собственного скромного жилья. Письмо к тетке, написанное с горькой необходимостью просить о крове, было отправлено с тяжелым сердцем. Ответ пришел быстро, сухой и лаконичный: миссис Гронгер выражала свое согласие принять племянницу, снабдив послание многочисленными намеками на ту обузу, которую она на себя взваливает, и на то, что пребывание Лорелайн в Гринторн-Мэноре должно быть ознаменовано самым строгим соблюдением приличий и чувством глубокой благодарности.
Карета с грохотом остановилась у подъезда, украшенного двумя каменными вазонами, из которых печально свешивались увядшие стебли георгин. Кучер спрыгнул с козел, чтобы отворить дверцу, и Лорелайн, сделав глубокий вдох, словно собираясь нырнуть в ледяную воду, вышла наружу. Осенний ветер тут же принялся бесцеремонно трепать полы ее старого, но аккуратного дорожного плаща и забираться под шляпку, сбивая пару скромных завитков, выбившихся из строгой прически.
Дверь в дом отворилась прежде, чем она успела подняться на ступеньки. На пороге возникла невысокая, сухопарая фигура экономки в темном платье и белоснежном чепце. Ее лицо не выражало ни любопытства, ни приветливости – лишь привычную, отработанную до автоматизма почтительность.
– Мисс Эверард, полагаю? – произнесла она, и ее голос прозвучал ровно так, как и должно было прозвучать в таких обстоятельствах: вежливо, но без капли теплоты. – Вас ожидают. Позвольте проводить.
– Благодарю вас, – тихо ответила Лорелайн, переступая порог.
Внутри пахло старой древесиной, воском для полировки и едва уловимой сыростью – запах большого, давно не жившего полной жизнью дома. Холл был обшит темным дубом, на стенах висели потускневшие от времени портреты суровых на вид господ в париках и дам в кринолинах, чьи глаза, казалось, с безмолвным осуждением следили за новой обитательницей. Ничто здесь не напоминало тот светлый, пусть и скромный, дом ее детства, где пахло свежей выпечкой и книгами, а из гостиной доносились звуки клавесина, на котором играла мать.