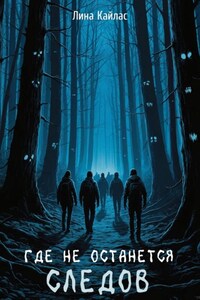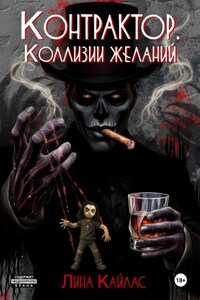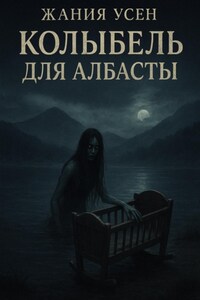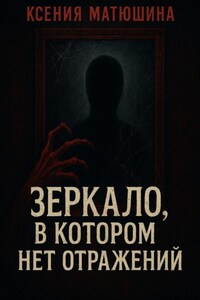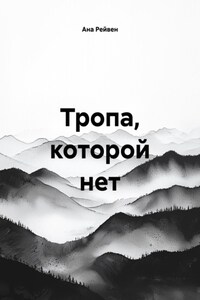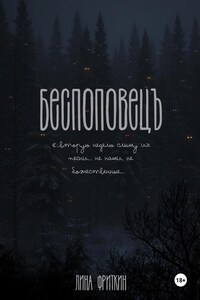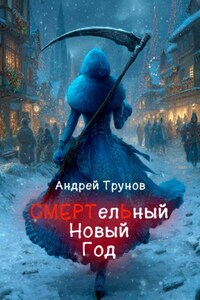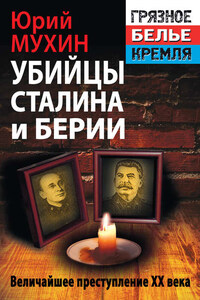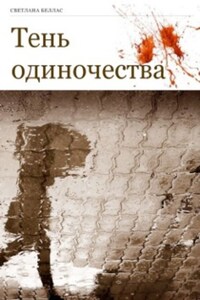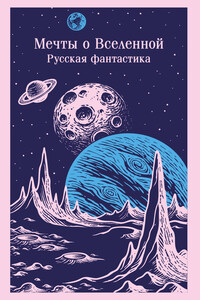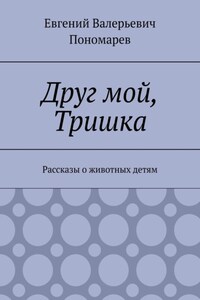Вечер первый. Приперлись в дикую глушь.
«Заянье».
Я уставился на перекошенную табличку, что выцветшими буквами цеплялась за остатки краски и грустно встречала нас на въезде в село. Или деревню? Хотя какая, собственно, разница? И там, и там – тишина, покой (может даже – вечный) и, кажется, забвение. И там, и там – покосившиеся заборы, заросшие травой дворы и взгляды из-под нахмуренных бровей, полные не то любопытства, не то подозрения. Если там вообще кто-то еще остался жить. Выживать?
Въездные ворота – два могучих столпа из почерневшего от непогоды камня, увенчанные остатками некогда величественной арки, и тянущаяся в обе стороны от них гнутая и дырявая сетка-рабица. Сейчас эта конструкция больше напоминала скелет, изъеденный ветрами и дождями, с зияющими пустотами, сквозь которые проглядывали серое, равнодушное небо и испещренная ямами проселочная дорога.
У самого горизонта, где эта дорога поворачивала за последними домами, там, где заканчивалась привычная реальность, еще хоть как-то напоминавшая цивилизацию, начинался лес. Не тот, куда деревенские детишки ходили за грибами или ягодами. Другой. Стоял плотной, непроницаемой стеной, словно затаив дыхание. И от него веяло чем-то древним и тревожным, взгляд невольно задерживался на темной кромке, словно в ожидании, что оттуда вот-вот выйдет что-то… или кто-то.
Во! Вспомнил! Как в фильме у Найта Шьямалана1, где в лесу обитали монстры в красных плащах. Ну тот, где Эдриан Броуди играл умалишенного паренька, заварившего всю ту кашу с нарушением границы чудовищ. Знаете? Теперь знаете. Не хватало только защитной полосы из столбов с установленными на них масляными факелами.
В общем, Заянье, точка нашей вынужденной экспедиции, почти полностью подходило под описание жуткой деревеньки из романов какого-нибудь Стивена Кинга, не иначе. «Кладбище домашних животных», рашн эдишн.
Забыл одну деталь – стелющийся, как погребальный саван, густой туман. Так и укажу в том треклятом отчете, что надо будет сдать ЭсЭсу по итогу экспедиции: «Сраный «Сайлент Хилл». Или как он там обозвал эту хрень? «Полевой дневник»?
Я здесь ради аттестации. Только ради аттестации…
– Саша, не отставайте!
Помяни черта! Пухлый приземистый старичок, почти скрытый необъятным рюкзаком, что зачем-то взгромоздил на спину, повернувшись в пол-оборота, призывно помахал мне рукой с веселой улыбкой на лице. Сергей Семенович Един, руководитель нашей, прости, Господи, экспедиции, которого мы за глаза прозвали «ЭсЭс»: слишком много требований, чересчур дотошный, безоговорочно уверенный в своей правоте, донельзя придирчивый старый козел. Я, между прочим, здесь оказался именно из-за его предмета. Потому что ЭсЭс категорически отказывался поставить мне даже «трояк».
«Сашенька, несмотря на вашу фамилию, вы должны знать русские корни».
Говнюк!
– Сам ты «Саша», – пробурчал я под нос, но, поправив лямки увесистого походного рюкзака, шагу прибавил.
Алекс! Я просил всех называть меня Алекс. Просто потому, что «Саша Шмидт» звучит как вызов для шепелявого ребенка, а не как настоящее имя. Или как попытка отхаркнуть мокроту, застрявшую глубоко в горле. Отвратительно! Поэтому – Алекс. Я же не виноват, что немецкая фамилия моего папаши в русских реалиях выглядит так, словно кто-то кинул на стол некомплектные детские кубики и собрал едва читаемое слово! Или паспортистка в МФЦ устало уснула лицом на клавиатуре, а пока ворочалась – набирала мою фамилию.
Рюкзак, а вместе с ним и раздражающе позитивный ЭсЭс, вышагивающий как гном из мультфильма про Нильса с дикими гусями, постепенно становились все ближе. Что он там тащил, интересно? Камни? Книги? Или, может, запасной комплект полевой кухни? При этом он явно молодился перед своей замшей! Хотя Курага точно уж была не многим его младше. Ах, да! Курага – это тоже прозвище. Вообще она Оксана Эдуардовна Абрикосова, старший преподаватель кафедры истории. Ее пергидрольная шевелюра маячила где-то в самом начале разрозненной группы. Два препода и еще шесть человек. Проштрафившиеся студенты, которым пришлось согласиться на эту вылазку, чтобы кое-как закончить второй курс. Чего? Исторического факультета Российского университета дружбы народов. Да-да, этим и объяснялась наша максимально интернациональная группа.