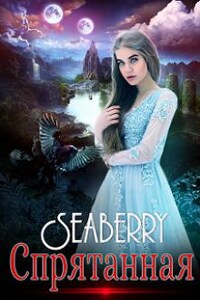Безмерно много есть причин и поводов,
Чтоб ненавидеть и, пылая злобою,
Вскипая, пенясь, проклинать!..
Но, знаешь, если говорить по честности,
То ненависть ничто – в сравненье с нежностью,
И нежностью душа сильна.
Она долго стояла на крыше небоскреба.
Точно ожидая чего-то – чего-то бесконечно важного.
Посидеть на парапете, свесив ноги вниз, как она любила, – даже
мысли не возникло. Она стояла и смотрела в одну точку, и не могла
сдвинуться с места, будто в точке этой должен был возникнуть смысл
её жизни, и стоило лишь на миг отвернуться, закрыть глаза – он
рассыплется прахом, подхваченный ветром.
А потом в ней, в этой самой важной в жизни точке, появился
маньяк.
– Лина! – он откуда-то знал её имя…
Голос маньяка заставил вздрогнуть и отшатнуться. И чёртов
парапет надломился, и она полетела вниз. Тут же всё вспомнила, но
ничего не могла поделать…
– Лина! Нет! – донеслось вдогонку, и девушка развернулась лицом
вверх, чтобы встретиться взглядом с серыми глазами. – Остановись!
Замри!
Она послушно зависла в воздухе, забыв даже удивиться.
А через миг её плеч коснулись его руки.
Не увлекая вниз – лишь закружив безумной каруселью вокруг
разгорающегося пожара внизу живота.
Впрочем, глаза, любимые глаза тоже пылали таким родным пламенем.
В нём бушевало море страстей, со всей красотой и всеми монстрами,
таящимися в неизведанных глубинах. А крепкие объятия обещали
хранить от всего мира.
– Любимая?.. – в теплом голосе чудился вопрос. Не к Лине, как ей
показалось. Он словно спрашивал себя самого. И сомнение это было
понятным. Бесконечный, но такой краткий миг блаженного забвения
минул, она вспомнила всё.
Вспомнила даже о том, причём здесь хомячки.
И о привороте, «зове чайки», внушившем ему любовь.
– Не спеши… – Лина едва заметно напряглась, отталкивая. Пока он
– не человек, у него совсем нет выбора. Нужно ждать.
– Да… тороплю… прости… – он сам немного отстранился, пронзая
дикой болью потери. Совершенно нелогичной потери – сама ведь
отталкивала? Да и вот же он, совсем рядом, даже объятий не
разомкнул – но между ними скользил холодный воздух, и прикосновения
его резали и рвали в клочья. Не тело, но душу.
Кружение остановилось, они замерли в безликом мареве. Всё также
глядя друг другу в глаза, но сияние в них остывало – ещё чуть-чуть
и изморозь покроет радужку. По телу тоже ползли и ветвились ручейки
холода.
{Зато вокруг разгоралось жестокое пламя, подступая с каждым
биением сердца, – ещё немного и, обледеневшие, они рассыплются на
миллион осколков}.
Её губы дрогнули первыми, а затем едва сдерживаемые слёзы
вылились в озноб. Коротенькие волоски по всему телу поднялись, как
иглы у испуганного ежа, хотелось свернуться клубком и спрятать нос,
и никого не видеть, и бить молниями любого, кто решится
потревожить.
– Ты совсем замерзла! – изумился Филипп и обнял крепче,
заставляя захлебнуться ознобом – выдох получился рваным,
судорожным, а лёд в душе растаял от пламени любимого и покатился
слезами.
Горячие руки скользили по телу, обволакивая теплом, словно
укутывая тёплым пледом.
– Прости… прости, я ничего не могу поделать… я люблю тебя, –
шептали губы в волосы за ухом. – И я не хочу, чтобы это менялось… –
жаркий шепот пьянил и кружил голову.
Только сейчас Лина заметила, что полностью обнажена, что и на
Филиппе, её чудесном неманьяке, нет привычной серой хламиды, и её
пальцы свободно оглаживают сильную спину. От этого она вспыхнула:
сначала, мгновением раньше – загорелись щёки, а затем внизу живота
взорвался жаркий клубок, отдаваясь искрами в глазах, разрядами на
кончиках волос. Она пронзила дёрнувшегося мужчину тысячами
маленьких молний, и зрачки его глаз расширились, оставив лишь узкий
серый ободок.