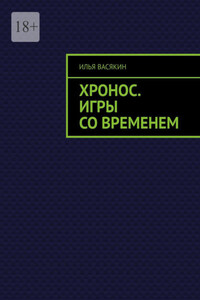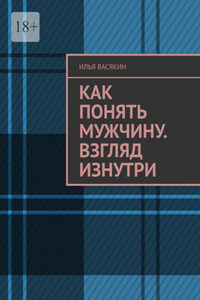Пролог: Город, Задыхающийся во Времени
Лос-Анджелес не спал. Он задыхался. Дождь, не падающий, а сочащийся из самого нутра города, как гной из инфицированной раны, заливал улицы. Он был липким, холодным, пахнущим озоном, от разрядов невидимых машин, бензиновой тоской и затхлостью бетонных гробниц. Неоновые вывески – кроваво-красные, ядовито-зеленые, мертвенно-голубые – плавились в мокром асфальте, их отражения тянулись вниз, как души утопленников. Где-то в туманной дали сирена выла протяжно, безнадежно, словно предупреждая о конце, который давно уже наступил, просто никто не осмеливался признать это.
И над этим сырым, пульсирующим кошмаром, над низкими, покоробившимися от времени и отчаяния зданиями Даунтауна, высился Он. Хронос-Тауэр.
Черный обелиск, вонзившийся в брюхо низкого неба, как стилет в подреберье. Семьдесят этажей обсидианового стекла, не отражающего, а поглощающего свет целиком, превращая день в вечные сумерки у своего подножия. Ни карнизов, ни украшений – только холодная, подавляющая геометрия, нарушаемая ритмичными рядами вентиляционных решеток, из которых сочился слабый, вибрирующий гул низкой частоты, ощущаемый больше костями, чем ушами. На высоте птичьего полета стены слегка искривлялись, будто пространство не выдерживало чудовищной массы запертого внутри времени или искажалось его давлением. Говорили, что на верхних этажах нет окон. Там, в абсолютной, немыслимой темноте, обитало само Время. Или то, что им торговало. Или то, что им питалось.
ЛЕО КАРВЕР стоял перед треснувшим по диагонали зеркалом в своей конуре-студии над вьетнамской забегаловкой в Чайнатауне. Воздух был густ, как бульон, от запахов скипидара, дешевого лака, подгнивших мандаринов и вечного подвального сырости. Дрожащими пальцами, на которых засохли коркообразные, как запекшаяся кровь, пятна ультрамарина и охры, он поправлял дешевый, мятый галстук на потрепанном смокинге, купленном когда-то в секонд-хенде для единственного, провального вернисажа. Ткань пахла пылью и чужим потом. Завтра – его триумф. Персональная выставка в MoMA. Мечта всей его жалкой, пропитанной дешевым виски, краской и неудачами жизни. Он должен был чувствовать эйфорию, лихорадочное возбуждение, дрожь восторга в кончиках пальцев. Вместо этого – лишь свинцовая тяжесть в желудке, пустота за грудиной и навязчивое, унизительное желание считать морщины на своей щеке, водить по ним подушечкой пальца, ощущая их непривычную глубину и остроту кромок, как канавки на старом грампластинке, заигранной до дыр.
Каждая морщина – ножевой укол по самолюбию. Углубление у губ, превратившееся в складку отчаяния. Веер у глаз, лучистый, как трещины на фарфоровой маске. Две резкие борозды меж бровей, сведенных в постоянную гримасу боли. Они появились не просто быстро – они выросли, как ядовитые грибы за одну ночь, будто время внутри него спешило, спотыкаясь, к какому-то неведомому финишу.
– Ты выглядишь… выжатым досуха, Лео, – произнес Голос. Исходил он не из воздуха, а из самой трещины в зеркале, зловеще черневшей на фоне его отражения. Звучал почти как его собственный, но… глуше, старше, с отчетливым металлическим призвуком, будто фильтрованный через ржавые шестерни карманных часов, зарытых в могиле.
Лео вздрогнул, шершавая, холодная керамика раковины впилась в ладони. В горле пересохло.
– Это… ты устал, – прохрипел он, пытаясь оторвать взгляд от слишком желтых, как пергамент, белков глаз в отражении. От зрачков, казавшихся мутными и безжизненными, как у дохлой рыбы.
Тень усмешки тронула губы Отражения, обнажив слишком длинные, чуть потемневшие у корней зубы, будто тронутые кариесом времени.