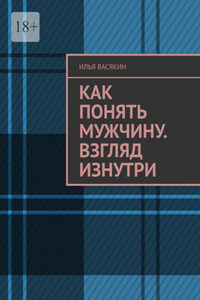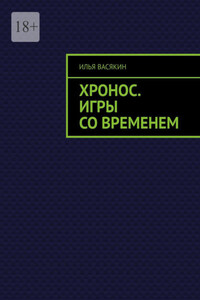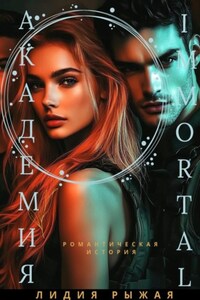Шторм аплодисментов обрушился на нее, как физическая волна. Оливия Стерн стояла в ослепительном свете рампы, улыбка, выточенная годами тренировок, застыла на лице. Ее последний поклон был совершенен – изящный наклон головы, рука, мягко прижатая к груди в благодарности, но без подобострастия. Шелест платья, сотканного из ночи и звездной пыли, сливался с грохотом одобрения. «Глория». Опять «Глория». Роль, принесшая ей первую славу, роль, которую она ненавидела всем сердцем, но которую публика требовала снова и снова. Как мантру. Как проклятие.
Она скользнула за тяжелый бархатный занавес, и мир перевернулся. Грохот сменился гулкой, давящей тишиной. Свет рампы погас, оставив после себя слепящие пятна в глазах и пронзительный холод кулис. Воздух здесь был другим – пропитанным пылью декораций, потом, запахом старой древесины и чего-то еще… чего-то затхлого, как невысказанные секреты. Несколько статистов в потрепанных костюмах промелькнули тенями, их лица в полумраке были лишены выражения. Техник, кряхтя, тащил громоздкий фрагмент дворцовой колонны. Никто не смотрел на нее. Или делали вид, что не смотрят. Звезда Городского Театра растворилась в этой рабочей рутине закулисья так же быстро, как ее персонаж исчезал со сцены.
Оливия двинулась по узкому коридору. Ее каблуки глухо стучали по деревянному полу, звук поглощался ватным молчанием. Стены, увешанные старыми афишами, смотрели на нее выцветшими глазами забытых спектаклей и актеров. Здесь, в этих кишках театра, триумф казался иллюзией, сном, от которого вот-вот предстоит проснуться в холодном поту. Она чувствовала, как адреналин, секунду назад бурливший в жилах, стремительно утекал, оставляя после себя свинцовую усталость и ту самую, знакомую до тошноты, пустоту.
Дверь в ее гримерку была массивной, темного дерева, с блестящей латунной табличкой «О. Стерн». Роскошь, дарованная статусом. Она толкнула ее, и створки бесшумно поплыли внутрь, открывая просторное помещение. Но роскошь здесь была леденящей. Высокие потолки терялись в полумраке. Большое трюмо с яркими лампочками по периметру казалось единственным островком света в море теней. Глубокое кресло, обитое темно-бордовым бархатом. Диван. Шкафы для костюмов. Все – дорогое, безупречное, и абсолютно безжизненное. Холод веял от каменных стен, не согретых духом человеческого присутствия. Это была не гримерка, а склеп для живой актрисы.
Оливия закрыла дверь, прислонилась к ней спиной. Тишина здесь была иной – не рабочей, а гнетущей, звенящей. Она сбросила туфли на высоком каблуке, и они с глухим стуком упали на персидский ковер. Босые ноги вонзились в холодный ворс. Шаг за шагом, медленно, как под гипнозом, она подошла к трюмо. Лампочки ослепили. В их безжалостном свете она увидела Глорию – безупречную, холодную, победительную красавицу с иссиня-черными волосами, собранными в сложную прическу, с безукоризненным макияжем, подчеркивающим скулы и губы цвета спелой вишни. Лицо статуи.
Руки, дрожащие теперь не от волнения, а от опустошения, потянулись к волосам. Не к своим. К парику. Осторожно, булавка за булавкой, она освобождала свою настоящую шевелюру. Парик, тяжелый, пахнущий лаком и чужим потом, с глухим шумом упал на столик трюмо. Под ним открылись ее собственные волосы – каштановые, вьющиеся, беспорядочно прилипшие ко лбу и вискам. Она взяла ватный диск, смочила его в едкой жидкости для снятия макияжа и провела по левой щеке. Бежевая краска смешалась с потом, оставив грязный след. Еще диск. Еще. Жесткими, почти яростными движениями она стирала Глорию. Слой за слоем. Тушь, растушеванная до дымки, румяна, тщательно наложенные тени… Все это сползало вниз, обнажая кожу подлинную – бледную, с синевой под глазами, с мелкими морщинками у уголков губ, которые Глория не знала. И с каждым движением ватного диска в зеркале проступала не статуя, а женщина. Изможденная. Постаревшая за один вечер. Глаза, еще секунду назад сверкавшие триумфом на сцене, теперь были огромными, темными и пустыми, как два колодца, уходящих в никуда.