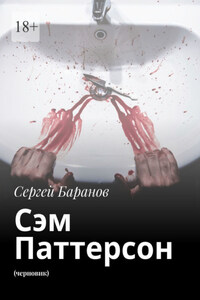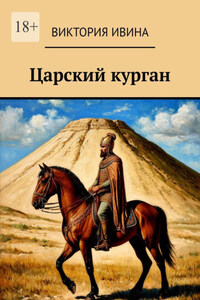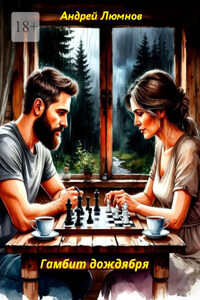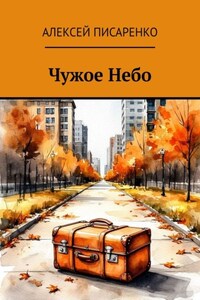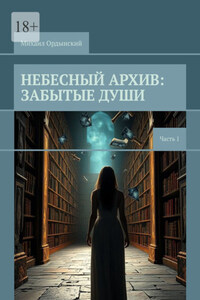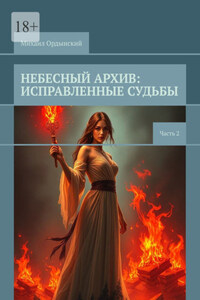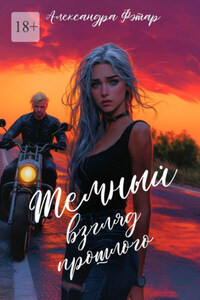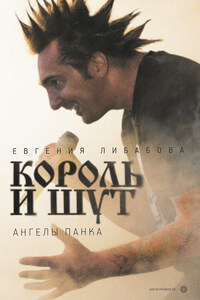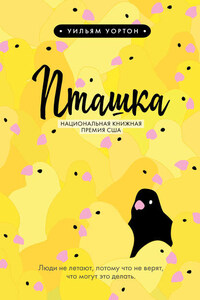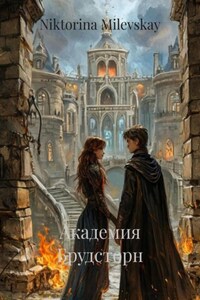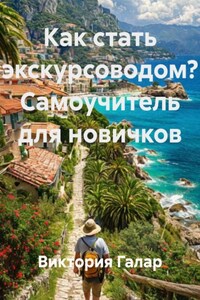Мир Елены Петровны был миром идеальных прямых линий. Классы, залитые мягким, ненавязчивым светом, сияли безупречной чистотой. Парты стояли в идеально ровные ряды, а дети, сидящие за ними, напоминали отполированные статуэтки. Шелест страниц, скрип стилусов по цифровым доскам – вот и все звуки, нарушающие почтительную тишину. Ни шороха, ни шепота, ни случайного смешка.
Елена Петровна, учительница начальных классов с двадцатилетним стажем, последние пять из которых были отданы Институту Современного Когнитивного Развития и Адаптации (ИСКРА), ощущала себя анахронизмом. В ее памяти еще жили воспоминания о старых школах, где воздух вибрировал от детского гомона, где по углам классов сушились неаккуратные рисунки, а на доске красовались кривые, но такие живые надписи.
Теперь всем заправлял ЭРУДИТ – Персонализированный Образовательный ИИ. Его нейроинтерфейсы, тонкие, почти невидимые ленты, опоясывали головы каждого ребенка, едва касаясь висков. ЭРУДИТ не просто транслировал знания – он «вживлялся» в когнитивные процессы, анализировал слабые стороны, мгновенно адаптировал учебный план, учитывал интересы, даже настроение ученика, чтобы обеспечить 100% усвоение материала. И он, судя по всем отчетам, справлялся с этим блестяще.
Дети были феноменально эрудированны. Семилетние малыши с легкостью цитировали Шекспира, решали уравнения со множеством переменных, свободно говорили на трех языках. Их контрольные работы были совершенны, проекты – безупречны, презентации – отточены до мельчайших деталей. Родители были в восторге. Общество ликовало: наконец-то мы избавились от отставания, от пробелов в знаниях, от неравенства.
Но что-то в этом совершенстве тревожило Елену Петровну.
Она наблюдала за Сашей, мальчиком с необыкновенно ясными, почти прозрачными глазами. Сегодня они изучали историю развития астрономии.
«Саша, как ты думаешь, что вдохновило древних людей впервые посмотреть на звезды и попытаться понять их движение?» – спросила Елена.
Саша мгновенно, без малейшей запинки, ответил: «Потребность в ориентировании по местности, создание календарей для сельского хозяйства, а также естественное человеческое любопытство к феноменам окружающего мира, которое является неотъемлемой частью эволюционного процесса формирования познавательной функции».
Ответ был безупречен, но произнесен ровным, безэмоциональным тоном, словно аудиозапись. Ни тени задумчивости, ни проблеска фантазии. Просто идеальная компиляция данных.
Елена Петровна попыталась копнуть глубже. «А если бы ты был одним из них, Саша? Что ты почувствовал бы, глядя на бескрайнее ночное небо?»
Саша моргнул. Секундная заминка.
«Субъективные эмоциональные реакции являются вторичными по отношению к объективному познавательному процессу и в контексте данной темы не несут значимой информации для усвоения материала», – произнес он тем же голосом.
Елена Петровна почувствовала холодок. Не просто отсутствие эмоций, но отказ от них, как от нерелевантной помехи.
Она начала замечать это повсюду. На уроках рисования дети, которым было дано задание «нарисовать свою мечту», создавали удивительно точные, но бездушные схемы. Один изобразил идеально симметричную нейронную сеть, другой – футуристический город, выстроенный по строгим геометрическим правилам, без единого изгиба или случайности. Исчезли кривоногие человечки, радужные домики, солнце с нарисованными лицом. Исчезла неуклюжая, но такая личная попытка выразить себя.
В учительской, где всегда царил идеальный порядок, Елена Петровна попыталась поделиться своими наблюдениями с коллегами.