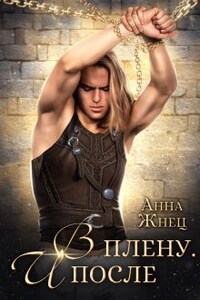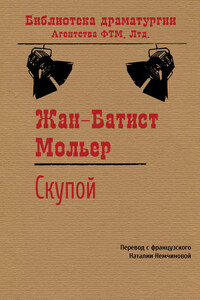«Смотри-ка, старается».
Дрожащими пальцами Фай достал из
потайного ящика в шкафу бутылку с прозрачной жидкостью — русалочьим
вином, налил его в стакан, частично расплескав на столешницу, и
осушил этот стакан залпом, чтобы унять звучащий в голове глумливый
гогот.
«Конечно, старается. Он же не
хочет, чтобы его смазливую мордашку порезали ножом».
«А может, ему просто нравится.
А, красавчик? Тебе нравится?»
Руки тряслись. Горькое пойло текло
мимо рта — по уголкам губ, по подбородку — и капало на грудь,
оставляя влажные пятна на застегнутой по горло тунике.
— Не было, ничего этого не было. Это
было не со мной.
Фай снова потянулся к бутылке.
Спиртное эльфы употребляли несколько раз в год — по религиозным
праздникам и не больше одной маленькой рюмки за вечер. Фай же
сейчас пил из стакана для воды. Сорокоградусную настойку, которую
продававшие ее русалки отчего-то называли вином, хотя виноградом
там и не пахло.
Как бы ему хотелось стереть себе
память. Иногда — до такой степени, что ради этого Фай готов был
размозжить череп о стену. Чтобы не думать. Не вспоминать. Не
слышать в голове тот омерзительный смех, грязные, пошлые фразы.
Красавчик. Они называли его
красавчиком. Когда наматывали на кулак его длинные, растрепавшиеся
волосы. Когда опрокидывали на спину, чтобы оседлать бедра. Когда
ставили на колени.
Они все называли его
красавчиком.
Один за другим Фай осушил два
стакана русалочьего вина, самого крепкого в Троелевстве, и
почувствовал себя пьяным. Прежде он не пил так много, но
сегодняшняя встреча расковыряла в душе едва зажившую рану.
Колени обмякли, перед глазами
поплыло, и тугой узел в груди наконец разжался.
Красавчик.
Трус.
Шлюха.
Фай боялся боли. Боялся того, что с
ним могли сделать в случае неповиновения. Боялся умереть, стать
калекой, лишиться своей привлекательной внешности. И да, он
старался. Старался, черт возьми! И ненавидел себя за это! Особенно
сейчас, когда страх перед увечьями поблек, а залатать растоптанную
гордость не получалось.
«Молодец, вот так».
«Я сделаю все, что хотите,
только не бейте. Уберите нож от моего горла. Не надо резать мое
лицо. Я буду послушным, только вы аккуратно, ладно?»
Мерзко. Невыносимо. Как вырвать это
из своей памяти? Как себя простить?
Но ведь храбрец Эвер тоже под конец
сдался. Если давить слишком долго, сломать можно любого.
У каждого свои страхи и свой предел
прочности.
Думая об этом — о том, что даже Эвер
оказался не железным, — Фай испытывал облегчение.
Со стыдом он вспоминал, как снова и
снова с фанатичным упорством говорил Эверу гадости, обвинял в
недостойном поведении, когда тот спутался с Чудовищем из Сумрака и
начал позволять ей всякие непотребства: целовался и обнимался до
брака, разрешал себя трогать, прикасался в ответ.
Фай знал, что заставляло его тогда
сыпать упреками в сторону распустившегося товарища. Боль.
Невыносимая душевная боль. Обвиняя Эвера в разврате, он пытался
возвыситься в собственных глазах, доказать самому себе, что после
насилия, всех этих «Я сделаю, что хотите, только не бейте»,
«Молодец, стараешься», он по-прежнему достойный, порядочный член
эльфийского общества, а не какая-то шлюха.
За свое морализаторство Фаю было
стыдно. Сейчас. Тогда — нет. Тогда ему до безумия, до смерти, до
горячих слез из глаз надо было как-то убедить себя в том, что он не
последнее ничтожество.
В окно постучали, и стакан выпал из
дрожащих рук Фая, с грохотом усеяв пол гостиной осколками. На
карнизе за стеклом сидел знакомый белоснежный голубь. К его лапке
была привязана записка.
Сердце подскочило в груди и
заколотилось как бешенное. Эллианна! Эллианна отправила ему
послание!
Осколки разбитого стакана захрустели
под ногами. В два шага Фай пересек комнату и распахнул окно.