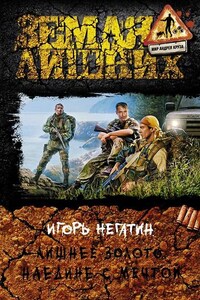Глава 1: Шепот в краеугольной тени
Солнце в ноябре под Новгородом – редкий и скупой гость. Оно не грело, а лишь подсвечивало унылую, промозглую сырость мира, затянутого в серую вату низких туч. День угасал быстро, почти без сумерек, сдавая позиции длинной, угрюмой ночи. Марина задернула последнюю занавеску на резном деревянном окне, отсекая вид на почерневшие от влаги бревна бани и бескрайнее мокрое поле за ним. В доме стало чуть уютнее, но ненамного. Тень, которую она пыталась запереть снаружи, уже давно пролезла внутрь и притаилась в углах.
Днем, впрочем, с тенью этой еще можно было бороться. Дом, старый, крепкий, срубленный еще прадедом Сергея, дышал тихим, глубоким спокойствием. Пахло воском, которым Марина натирала массивный дубовый стол, хлебной кваской из печи и сушеными травами, пучками висящими под потолком. Пахло жизнью, трудом, историей. Днем Марина могла убеждать себя, что все тревоги – от усталости. Материнство, особенно первое, – это ведь не только умильные картинки из интернета. Это перманентная взвинченность, чуткий, почти звериный слух, улавливающий любой шорох из колыбели, и постоянное, изматывающее недосыпание. Разум, лишенный нормального отдыха, начинает достраивать реальность, рисовать монстров в обычных тенях. Она читала об этом. Врач в районной поликлинике, молодая уставшая женщина с таким же темными кругами под глазами, говорила: «Выспитесь, и все пройдет». Словно это было так же просто, как выпить таблетку.
Она подошла к колыбели. Данила, ее пятимесячный мир, ее вселенная, спал, разметав по подушке ручки. Его дыхание было ровным и чистым. Щеки, румяные после дневной прогулки на свежем воздухе, казались бархатистыми. Он пах молоком, детской кожей и чем-то бесконечно своим, родным. Она поймала себя на том, что просто смотрит на него, ловя эту гармонию, пытаясь зарядиться ею, как аккумулятор, перед долгой ночью. Потому что ночь… Ночь была другой.
Все началось неделю, нет, уже дней десять назад. Сначала это был просто новый звук в его ночном лепете. Не «агу» или «гули», а что-то более гортанное, вроде «хрр» или «хм». Она даже улыбнулась тогда, подумав, что сын осваивает какие-то старославянские звуки, живя в такой древней земле. Новгородская земля помнила викингов, помнила вечевые колокола, помнила лихолетье Смутного времени. Почему бы ей не влиться в голос младенца?
Но очень скоро улыбка сошла с ее лица. Лепет становился все сложнее. Появилась ритмичность, повторяющиеся сочетания звуков. Это не было хаотичным бормотанием уснувшего ребенка. Это было похоже на… практику. На повторение слов. Непонятных, чужих слов. Однажды ночью ей показалось, что она четко разобрала что-то вроде «айна» или «кхэйт». Звук «кхэй» был особенно неприятным – сдавленным, шипящим, будто кто-то пытался прочистить горло от соринки.
Она поделилась опасениями с Сергеем. Муж, коренастый, добрый, с руками, привыкшими к топору и молотку, а не к тонкостям младенческой психики, лишь рассмеялся и обнял ее.
«Фантазерка ты моя, – сказал он, целуя ее в макушку. – У всех детей свой язык. Мой брат, говорят, до двух лет на птичьем щебете разговаривал, а потом как прорвало – заговорил чище радио диктора. Перерастет. Насмотришься тут всяких ужастиков».
Она хотела было возразить, что не смотрит ужастиков, что ее страх – совсем иной природы, не киношный, а глубокий, инстинктивный, но промолчала. Не хотела казаться истеричной. Сергей был ее опорой, ее скалой в этом новом, сложном мире материнства. Его уверенность была ей нужна как воздух. И она сама старалась в нее верить.
Но сегодня… Сегодня все было иначе. Сегодня она услышала. Не просто бормотание. А диалог.
Марина лежала с открытыми глазами, вглядываясь в бархатную, почти осязаемую тьму спальни. Свет ночника, сделанный в виде месяца, отбрасывал слабый желтоватый ореол, лишь подчеркивая глубину теней в углах комнаты. Рядом, раскинув руку, посапывал Сергей. Его глубокое, ровное дыхание было звуком абсолютно земным, обыденным, якорем нормальности. Она слушала его, пытаясь подстроить под этот ритм собственное дыхание, унять трепет в груди.