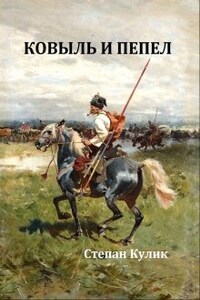«Оглянись, незнакомый
прохожий.
Мне твой взгляд неподкупный
знаком.
Может я это, только
моложе,
Не всегда мы себя
узнаем…»
А. Градский
Последнее время мне все чаще снится
степь.
Бескрайняя, необъятная. Мягкий
шелест душистых трав, хрустальный перезвон жаворонков, бездонное
небо над головой, полное света днем и расточительно залитое
мириадами звезд Млечного пути ночью. Рядом чудится негромкое
сопение коня и размеренный хруст травы на его зубах.
Ласковый сон, приятный. Ни малейшего
желания просыпаться. Да и зачем? Ночь — это забвение, отдых, а днем
снова возвращается боль, которую невозможно терпеть, да и сил уже
не осталось. А лекарства действуют все меньше, не столько унимая
ее, как загоняя в уголок сознания. Где она таится, будто зверь в
норе, выжидая момента, чтобы наброситься и впиться в тело всеми
клыками.
Одно радует — недолго осталось. Еще
чуть-чуть, и я освобожусь от ее власти, оставив своего
безжалостного палача ни с чем. Не знаю, что ждет меня по ту сторону
бытия, но хуже вряд ли станет. И мысль о скором избавлении
позволяет держаться достойно, не скулить, не выпрашивать
дополнительного укола вне графика. Вот только так и не исполнится
мечта взлелеянная еще в те годы, когда я по малолетству физически
не мог удержать в руках толстую книгу, и их мне читал дедушка.
Горы, море, десятки городов — был, жил, знаю, а вот в степи так и
не довелось побывать. Взобраться на курган, повернуться лицом к
солнцу, раскинуть руки и глубоко вдохнуть воздух безграничной
вольницы.
Жаль. Ну, да ладно. Авось, в другой
жизни удастся.
Ночь двулика и непредсказуема, как
всякая женщина. Она может быть верной и любящей подругой, нежно
убаюкать и незаметно отнять лишнее время, а может вдруг обидеться,
взбрыкнуть и уйти, оставив наедине с мыслями и ожиданием.
Вот как сейчас… До утра целая
вечность, которую надо чем-то заполнить. И единственный способ
забыть о комках в подушке, складках простыни, жарком одеяле —
унестись, улететь мыслями так далеко, как только возможно. В ту же
степь…
Чистый, пьянящий воздух. Стрекот
цикад. Звезд столько, что кажется, они едва помещаются на небе и
вот-вот посыплются вниз, как перезрелые плоды шелковицы. О! Одна
таки не удержалась… А вот и еще одна. Надо успеть загадать желание…
Последнее.
Чертова муха! И ведь не просто
зудит, так и норовит в глаза залезть. А, ну,
кыш!
Я раздраженно взмахнул рукой,
прогоняя надоедливое насекомое, и оцепенел. Я! Взмахнул! Рукой!
После месяцев полнейшей неподвижности?!
Ошеломленно поднес ладонь к лицу,
удивляясь легкости и непринужденности жеста. Прикоснулся пальцем к
кончику носа, не веря собственным ощущениям. И вдруг понял, что
боль, ставшая уже как бы частью меня, тоже исчезла. И все сразу
стало понятно: я умер. Вот так просто, без красивых и пафосных
прощаний, без горестных рыданий у изголовья, ушел по-английски, не
заставляя родных и близких прятать за скорбными масками чувство
облегчения. Отмучились… И я, и они.
Да что ж такое?! Опять эта муха…
Говорят, одно из имен дьявола — Бельзебуб, Повелитель мух. Может, я
в аду? Вот только подо мною явно не сковорода. А какой-то вонючий
тулуп. И еще одно обстоятельство вызывает сомнение в преисподней.
Речка… Вряд ли в царстве Огня и Хлада может вот так свободно
журчать река. А она таки журчит, шагах в двадцати от меня, лениво
перекатываясь через каменистый порог. Значит, жизнь
продолжается?
Почему я так спокоен и уверен в
этом? Наверно, потому что никогда не сомневался в бесконечности
существования. Нет, все эти иудейские сказки о загробной жизни я
тоже не воспринимал всерьез, из-за примитивности и инородности. Но
то, что разум может просто так исчезнуть, бесследно раствориться в
ноосфере — не верил. Слишком уж сложный ресурс, чтобы природа могла
использовать его столь расточительно. И потому сто раз прав поэт,
сказавший «Что мы, отдав концы, не умираем насовсем».