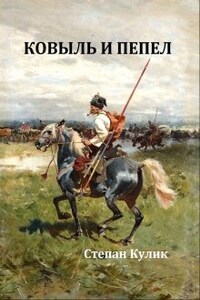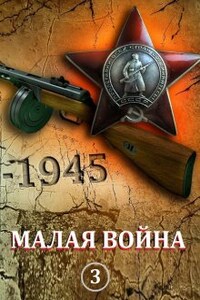«Здесь страх не должен подавать
совета!..»
Данте Алигьери
От одного краю небосклона к другому,
с юга на север, а может и наоборот, стелется пыльный шлях. Откуда
он взялся, не помнил никто. Может, протоптали его лошади казаков и
ордынцев, а может — чумаки накатали телегами и притрусили солью,
возвращаясь с Гнилого моря. Вот только в лихие годы христианский
люд предпочитал обминать его десятой дорогой, и пылили по шляху
только пестрые чамбулы басурман, да плелись в Крым вереницы
пленников и обозы с добычей. А потом, на долгие месяцы, словно
вымирало все вокруг. И шлях зарастал такой же травой-муравой, как и
везде, разве что ниже и жиже. Но не столько зоркий, как опытный
путешественник всегда мог отыскать его среди бескрайней степи по
высоким могилам и каменным бабам. И еще — по белеющим костям…
Уже далеко пополудни шляхом тем,
тревожа копытами мелкую пыль, медленно плелся вороной конь. Тяжело
посапывая, поворачивал он голову, и тогда глаз косился на всадника
в монашеской рясе, будто спрашивая: как долго еще мучиться? А тот,
опустив капюшон на лицо, дремал, привычно покачиваясь в
седле...
И снились святому отцу не заутренняя
молитва или всенощное бдение, а жатва.
Загорелые руки крепко сжимают
деревянную рукоять, широко, с размахом кладут покос. Весело
посверкивает лезвие косы, и полные усатые колосья устало ложатся на
горячую землю. Босые ноги ласково, словно поглаживая, сминают
стерню, шаг за шагом продвигаясь вперед уверенной поступью хозяина.
Колеблется перед глазами золото хлебов, а между ними редкими,
драгоценными самоцветами посверкивают васильки, маки,
ромашки...
Не спохватишься, как уже вечер на
дворе. И, Боже, как же прекрасен и благостен созданный тобою мир!
Еще солнце не спряталось, а на небе уже блестит месяц. Теплый,
свежий ветерок с реки снимает усталость. Вырвешь клок травы,
оботрешь косу и улыбнешься. Забросишь на плечо и зашагаешь в
село... Утомленные ноги, радуясь близкому отдыху, сами прибавят
шаг. А возле дома только ноздри задрожат, вдыхая запах готовящегося
ужина. Поднимешь к губам запотевшую крынку густого прохладного
молока и затаишь дыхание, замрешь от наслаждения... Будто и не было
дня, — многотрудного, сплывающего соленым потом.
Конь споткнулся, то ли вступив в
старую осыпавшуюся норку, то ли — на спекшийся до каменной тверди
комок земли, всадника качнуло сильнее, и он открыл красные,
воспаленные глаза.
— Господи, — пробормотал тихо, —
зачем посылаешь мне такое испытание? Ты же всемогущ и
человеколюбец. Зачем же будить посреди степи, не дав даже во сне
попить вволю и поесть досыта?
Человек в монашеской сутане прервал
жалобу и принюхался. Ветерок, что повеял с юга, отчетливо доносил
запахи пищи и человеческого жилья. Но как, ни всматривался путник в
той стороне, до самого горизонта, лежала пустая степь. А еще
дальше, почти на краю, тянулся к небесам лес, отсюда кажущийся
всего лишь темной полоской грозовой тучи.
— Ну, за что я страдаю, если
вдуматься? Неужели помочь другому… человеку, столь тяжкий грех, что
я еще по сей день не искупил вину? — тяжело вздохнул всадник,
перекрестился и с горечью взвел глаза к небу. — Мне бы хоть один
взгляд оттуда бросить, вмиг бы все распознал. А снизу такое все
одинаковое. К примеру, те деревья, что вдали. Это уже тот лес, что
мне нужен, или еще нет? Поди, угадай… И дернул же черт
исповедаться!.. Не мог подождать, пока дело не сладится? Вот что я
стану отвечать Феофану, когда он спросит меня: «А поведай-ка, слуга
царев, Василий, по какой такой надобности ты оставил Куницу без
присмотра? Где реликвия?»
Орлов опять вздохнул, и с трудом
удержался, чтобы не посмотреть себе за спину, на север. Туда, где в
далекой Москве, ждал его донесения домовой Феофан. Тайный советник
великого государя всея Руси — Иоанна Грозного.