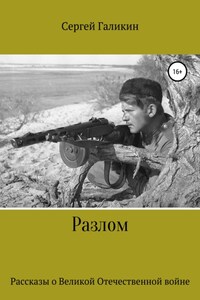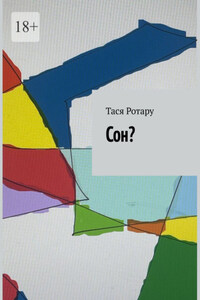«… А женила меня пуля под ракитовым кустом.
Востра шашка была свашкой, конь буланый был сватом.
Среди битвы роковой.
Вижу смерть моя приходит –
Черный ворон, весь я твой!
Глава первая
«…Дзинь – бом – м – м, дзинь – бом – м – м!.. Дзинь – бом – м – м, дзинь – бом – м – м! Бом – м – м… Бом – м…» – далеко – далеко над широкой степью, над такими знакомыми с самого раннего детства и теперь наглухо засыпанными глубоким снегом окрестностями, над редкими, едва чернеющими в пологих балочках кудрявыми терновыми кущами, над полями да лугами – ох, и далеко – ж разносится по всей округе веселый кузнечный перестук!
– Т – пру – у – у!.., – Гришка натянул поводья, придерживая разгоряченного Воронка, широко усмехнулся, топорща совсем недавно отрощенные редкие усы. Спрыгнул с коня, снял сноровисто отяжелевшую папаху, в пояс низко, чуть картинно поклонился родной земле.
«… Дзинь – бум – м – м! … Дзинь – бум – м – м!»
Первый удар, тонкий да пронзительный – это, известно, папаша ладит, правит своим легким молотком, указывает молотобойцу. Второй удар, гулкий и низкий – это его, молотобоя, тяжелого молота голос, он туда, где указано папашей бьет, по красному и податливому, как мартовская прибрежная лоза, железу.
«Кого же батя ныне в молотобоях – то… держить?» – хитрой лисой промелькнула вдруг мысль.
Гришка усмехнулся, качнул головой, сладко зажмурил глаза и ясно себе представил, как теперь в жаркой, пропахшей дымом да едкой окалиной кузне, голые по пояс, в замызганных кожаных фартуках, черные от сажи, как те черти, изредка незлобно матюкаясь и часто схаркивая ту же прилипучую сажу, работают его папаша с подручным.
« Боронки, небось, шлепають… Дело – то ить… к весне идеть…», -решил он про себя , взглянул на небо, нахмурился, посуровел, натянул на чубатую голову папаху, поправил порядком разбитое седло, подтянул подпругу на мокром животе жеребца и снова вскочил на Воронка, слегка его пришпорил и легкой рысью направился вниз с бугра, туда, где под старой разлапистой акацией издавна притулилась над овражком хуторская кузница.
Перестук вдруг смолк. Гришка спешился, как старого друга отчего – то ласково погладил ладонью толстый зализанный сук, усмехнулся и ловко закинул на него повод, затянув его потуже так, что воловья кожа щедро выдавила из себя зеленые капли влаги. «Видать, сели полдничать. А тут вам и… гости!…».
Войдя через раскрытую дверь с яркого морозного дня в полутемную кузницу, Гришка в сутулом, бородатом человеке, сидящем на старой, такой знакомой ему с самого мальства, закопченной колоде, тут же угадал родную фигуру отца. Больше в кузнице никого не было.
Панкрат Кузьмич, подняв забитые сажей глаза, в сумраке кузнечном сперва не узнал в вошедшем статном военном своего сына, которого не видел с прошлой весны и не получал о нем никаких вестей, ибо до последних дней и окрестности станции Целины, и весь Донской край находились в глубоком тылу деникинских войск.
Гришка, широко шагнувши вглубь помещения, сам крепко обнял приподнявшегося старика:
– Ну и… здравствуйте, папаша!
У того и дух сперло, потемнело в глазах. Выдавил только:
– Слава Богу!.. Григорий! Э – гм… Да – а… Гм…, гм… Сынок, значить, Гриша… Живой. Как же…
И неожиданно тяжелая горькая слеза прочертила белый след по черной впалой его щеке, растворившись в косматой бороде.
– А вот… Я теперя, папаша… у самого товарища Думенки… В ординарцах хожу! – отчего – то вдруг вырвалось у Гришки, – вот, в Веселый… с донесением прибывал, – он отчего – то вдруг помрачнел, склонил голову, но тут же снова заулыбался, – та дай, думаю, добегу и до дому!..– приговаривал он сквозь редкие всхлипы старика, – круг ить… Туточки… небольшой! А… А товарищ Думенко, папаша, он – ого! С самим товарищем Каменевым иной раз по аппарату говорить, вот, как и мы теперь… с Вами…