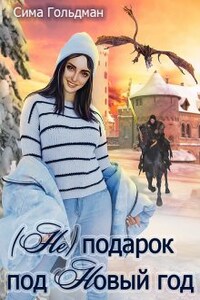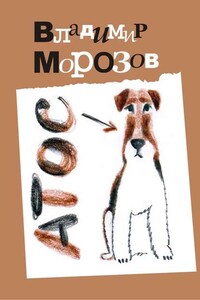Барна тен’Элек пробирался вдоль самой стенки, касался рукой,
чтоб не потерять дорогу. От дыма и из-за слезящихся глаз видно было
плохо. Он заново обошел весь этаж и возвращался, когда за воем огня
услышал стоны. Рука провалилась в пустоту.
Спальню младших девочек он уже смотрел, даже тлеющая от жара
дверь так и осталась распахнутой. Вошел снова. Одна стена горела, и
рыжие языки стелились по потолку, как вода. Желтело, покрываясь
пятнами белье на брошенных постелях… Прижатая ко рту и носу тряпка
нещадно воняла. Барна не нашел, чем смочить и пришлось вытряхнуть
подвявший букет из вазы. Вода в ней застоялась и затхлый, как
гнилое болото, запах мешал думать так же сильно, как страх или жар,
или…
– Маа… маа… – едва слышно, хрипя и захлебываясь кашлем, тянуло
из из-под кровати как раз у стены, укрытой огненным ковром, –
мама…
У Барны у самого двое было, младшая только ходить начала, болела
часто. Потому и сторожевать нанялся на приработок.
Не думал даже. Сунулся ближе к койке, чувствуя, как стягивает
кожу на лице. От одеяла уже огрызок остался, и железные навершия
кровати раскалились. Вспыхнула хлопко́м подушка. Барна упал на
колени, потом на живот и за цыплячью щиколотку выволок из огненного
мрака девчонку со светлыми, скрученными от жара волосенками, с
совершенно безумным пустым взглядом, черную от копоти и сажи, в
ошметках тлеющей ночной сорочки.
– А-а-а-а-а-а, – закричала она и забилась.
В зрачках плескался огонь, ошалевший от ужаса ребенок, пытался
выдраться и залезть обратно, и Барна, кляня себя последними
словами, ударил. Худое тельце тут же обмякло, сделавшись, как
дочкина тряпичная кукла.
Где-то наверху лопнуло разом несколько окон и огонь взвыл,
бросаясь, как зверь. Хорошо, что тен’Элек встать не успел, только
на четвереньки, и спиной почуял, как занялся специально надетый
толстый овчинный тулуп. Крутнулся на спину, потом обратно,
прикрывая дитя. Подхватил ее под острый локоть и так – ползком и
волоком – в коридор.
– Единый Боже, по небу хожен, во миру славен, во гневе ярен, –
бормотал Барна, пробираясь к задымленной лестнице, отчаянно кашляя
и уже почти ничего не видя и не соображая почти. Тряпку он потерял
еще там, в спальне, и как теперь в дыму спускаться, было непонятно,
один навий, все равно надышался. – Отведи беды, на всякий день и на
всякий час, встань с духом нашим духом своим.
Славить и серп класть после молитвослова было не с руки: одной
он девчонку держал, другой – стену…
Дернулся, ожегшись оголившимся запястьем, и на пол загремело.
Чан для воды, чтоб дети всякий раз на кухню не бегали. Значит,
лестница справа… была. Больше нет. Обрушилось разом, и пол под
ногами просел. Барна кинулся в сторону, там воспитательская и
балкончик, если повезет… Повезло. Сюда огонь еще не добрался,
мешало плотно закупоренное узкое окно, но уже вот-вот. Стоило
только рвануть на себя медную ручку, как за спиной, толкнув горячим
воздухом дверь, заревело.
Тен’Элек, прыгая, уже дурной был от дыма и полуослепший от огня.
А когда под спиной хрустнуло, испугался, что сломал. И сломал, да,
лелеемую наставницей тен’Дезсо короткоствольную, но разлапистую и
колючую багряную сливу, плоды дающую кислые и мелкие, зато цветущую
так, что даже у него, Барны, где-то внутри тянуло и екало, как по
молодости.
И до чего сладким был воздух тут, снаружи, и холодным казался
таким, словно не летняя светлая ночь над Новым Ведере, а зима
где-нибудь в краю Ллоэтине.
Девчонка захныкала и завозилась в руках. Глаза все еще плыли
слезами и болели так, будто их вынуть пытались, но Барна разглядел
склонившееся над ним лицо дородной Аготы, сменной няньки. Она
вцепилась в тлеющий рукав тулупа и тащила его за этот тулуп прочь
от полыхающего приюта.